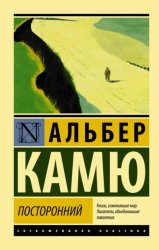Вы читаете книгу «Ведьма» онлайн
Глава
Часть 1
Дорога – дышит.
Дорога – шепчет.
Дорога – сама стонет, как будто под ней – тысячи мёртвых глоток, и все они враз глухо позвали.
Куча лежит – не телом, не плотью, не костями. Куча – ком, клубок, сгусток, сама дорога в нём слилась, сама грязь воплотилась, сама ночь собралась.
Грязь пульсирует. Грязь тянет в себя, и в этой тянущей липкости – толчок.
Толчок – жизнь.
Толчок – смерть.
Толчок – зов, что идёт из-под рёбер, где рёбер больше нет.
И деревня вокруг – глухая, без глазниц. Избы стоят, будто черепа: окна пустые, ставни закрытые, ни дыхания, ни шороха. Только дым тянется вверх – тонкими нитями, серыми, как сухожилия у костей.
И в этом дыме – смешалось всё: капуста кислая, шерсть палёная, терпкий квас из бочек. Всё тянется, всё вонзает, всё душит.
Виденье хлынуло.
Сами дома сошли в круг и смотрят. Сама деревня обступила, как толпа с мордами звериными, но без клыков – только беззубые пасти.
И там, внутри, в куче – тьма оживает.
Тьма – как зверь.
Тьма – как корень.
Тьма – как дыхание глубин, чёрное, холодное. Она тянется вверх, она толкает, она живит, как гной в ране – смердит и греет.
И миг длится вечность.
И вечность длится миг.
Всё перетекает. Боль – в грязь, грязь – в дыхание, дыхание – в стук земли, стук – в липкую надежду. Надежда обманет, но надежда держит, как сеть, как паутина, как цепь, и в этой цепи – жизнь.
Жизнь, которой не должно быть. Жизнь, которая тянется из смерти.
И дорога теперь – не дорога, а тропа внутрь.
И внутри – бездна.
И бездна смотрит, и бездна зовёт, и бездна шепчет: «Встань»
Глава 1. Возвращение
Встала середина Грудня. Камень дышал тяжело – низкие хребты упирались в свинцовое небо, обросшие мокрой хвоей леса стояли темными громадами, а сырость вползала в кости. Снег не лёг – растаял, раздавился под дождями, и под ногами хлюпала грязная каша, из которой тянуло холодным паром. Пахло гнилыми листьями, мокрой сосной, болотцем, где трава уже черна и легла пластами.
Из чащи вышел охотник. За плечом пустая сеть, туес без добычи, в глазах усталость. И всё же не звериный след тревожил его шаги – звери оставляют метки ясные, читаемые, а это было иное: и он улавливал это нутром, как улавливают не звук, а пустоту между звуками.
Он поднялся на пригорок и перед ним показалась деревня: не бедная – десятки изб, амбары, на высокой поляне деревянная церковь в строгом срубе, крыша её остро колола серое небо, а тонкая колокольня тянулась вверх, словно вслушиваясь; в стороне, где улица сходилась с лесом, темнела кузня, отодвинутая от домов, как если бы сама деревня сторонилась её жара и искр. Дым из труб тянулся неровно и гас посреди неба. И всё же выглядело всё сиротливо, тоскливо, как будто обжитое место вдруг стало пустым.
Ступил на деревенскую улицу – и та встретила его тягучей тишиной, будто сама затаила дыхание – не хлебосольная, не ласковая, а сжатая в себе, настороженная. От дворов тянуло тяжёлым: кислая капуста в кадках, дым, что не успел вытянуться в небо и прижался к избам, пар от навоза. Всё это висело в воздухе, густым слоем ложилось на дыхание.
У кузни стены почернели от копоти, и ветер, влетев в щель, гудел как кто-то плакал там. У Арины, бабы зловредной и любопытной, за окном мелькнуло лицо – не лицо даже, а смятённая тень, и тут же холстина осела обратно. Под тыном у девки Фени гуси сбились в кучу, зашипели, но, услышав его шаг, будто устыдились и смолкли. Тишину задел кашель – сухой, колючий, будто по коре ножом скребут. Долгий, натужный, до боли знакомый. Охотник остановился. Хмуро вслушался. Митрошка. Летом ещё голос звенел, а теперь в каждом его вздохе слышалась трещина, как в дереве, что сохнет у печи.
И в каждом дворе чувствовалось одно и то же – не жизнь, а томительная настороженность. Деревня его знала, он был свой, из её плоти и крови, и потому он сразу понял: что-то случилось. Воздух скис. Тени стали гуще. Не он один слушал деревню – деревня слушала его. Каждый дом, каждая щель в заборе, каждое окошко – всё смотрело, дышало, сторожило.
Дорога позади – и вот уж показалась его изба. Не чужая, не совсем своя: месяц как под кровлей живёт, а всё ещё со стороны глядит. Стены тёмные, сами ночи напитались, крыша мокрая, блестит остаточной сыростью после дождя, а над трубой лениво тянется дым – не весёлый, не хозяйский, а какой-то задумчивый, тонкой струйкой и сам не знает, стоит ли тянуться к небу или раствориться в сумраке.
Охотник остановился на миг: сердце уставшее, глаза голодные тепла – хотел найти тут покой, уют обещанный. В доме жена, огонь, запах хлеба. Но стояла изба, словно молча глядела в упор: не с радостью встречала, а с терпением, как будто знала что-то, чего он не знал.
Внутри висел тяжёлый пар: печь дышала жаром, пахло золой и мокрым холстом. Над корытом, с закатанными по локоть рукавами, склонилась Дуня: ладно сбитая, крепкая в плечах, повойник на голове сбился набок, выбившиеся пряди прилипли к вискам – она выжимала ткань с силой, будто душила, и снова бросала в кипяток. Щёки горели, на висках прилипли тёмные пряди. В каждом её движении было что-то решительное, словно и в корыте она сражалась, а не стирала. Простая, понятная, как хлеб и вода. И в то же время чужая в этой работе.
Он задержал взгляд, но не стал спрашивать. Усталость давила, а ещё в голове гудело то, что тревожило его весь путь: пустые петли, пустая сеть. Зверья не было. Спряталось всё.
Тут же с лавки метнулся Прокоша – малец крепыш, Дунин брат, сирота; а для охотника он уже сродник, почти сыновейший, словно побратим малый. Он торопливо накрывал на стол: чугунок с крупяной кашей, кусок хлеба, простокваша, ставил глиняную чашку для Тура; вытер руки о передник и спросил голосом, где слышна была готовность к взрослому – с оттенком тревоги:
– Пуст пришёл?
Охотник тихо кивнул, устало.
– С пустыми руками, – глухо сказал он, развязывая на плече ремень. – Ни следа, ни шороха. Сам такого не видывал.
Он бросил сеть в угол, присел на лавку. Сапоги тяжело скрипнули. В избе стояла тишина, прерываемая лишь плеском воды в кадке. Дуня молчала, будто не услышала, или не захотела откликнуться.
Прокоша поставил ложку на стол, вытянул шею, глаза круглые, словно в сказке уже жил. Тур молчал сперва, хлеб рвал да жевал, а потом тихо сказал, с паузами, будто и сам не хотел вспоминать:
– Слыхал я от стариков… что земля – не наша, а чужая, в ней живут силы. Мы по верхушке ходим, а снизу – как море, темень плещется. Иногда шевельнётся – и трещина пойдёт, как змей по камню.
Прокоша вслушивался, глаза огромные, руки в кулаки сжал, сам готов был держать землю, чтоб не разошлась.
– Было, – Тур перегнулся ближе к мальцу, – как раз под Покров… стояли люди у церкви, и вдруг звон сам собой загудел, не касался никто. Потом земля под ними затряслась, как под скотиной лёд весной, а в колоколах заголосили души, что под землёй томились. И кто не перекрестился – того утянуло вниз, будто в омут.
Лучина щёлкнула, словно подтверждая сказанное.
– А звери? – выдохнул Прокоша.
Он помолчал, хлеб в руках крошился.
– А звери то наперед чуют, под Камнем глубоко чудь живёт, обложенный скалами; шевельнётся – и беда грядёт. Медведь в горы уходит, лиса в нору не показывается, птица с криком летит. Всё прячется.
Охотник повёл плечом, стряхивая липкий холод, и добавил уже вполголоса:
– Вот я сегодня и слышал, как всё стихло. Так, что собственное сердце, казалось, в землю провалилось. Перед бурей, перед бедой – так старики сказывали.
Дуня молчала у кадки. Полотно в её руках вдруг замерло, вода капала в тишину – кап-кап-кап, будто время отсчитывала. Лицо у неё было неподвижное, но плечи чуть дрожали – нутром чувствовала: что-то и вправду ворочается, только не под землёй, а рядом с ними.
Глава 2. Курьи именины.
Дневной свет размыл предчувствия, рассовал тени по углам и к полудню изба у Дуни уже не дышала – пыхтела. Печь шипела, заслонка подрагивала, на ухвате отпечатки муки, мука на полу, на повойнике, на скулах; на лавке квашня раздулась, угрожая уйти через край; на жердях – белёные полотенца, пар от них сладковатый, щёлок щиплет нос. Дуня – стрелой: то к печи, то к корыту, то к столу, то к сундуку за чистым. Кто не знает – скажет: молодая, хозяйка! Кто понимает – подумает другое: руки занять, мысли заглушить. В избе пахло всем сразу – горячим хлебом, сырой золой, мокрой холстиной, тёплым паром, от которого на окнах дрожала вода. Смешались запахи земли, печного дыма, пота и свежевыжатого белья, и всё это разом навалилось, как густой хор. Тур вдохнул глубже – и вдруг в этом многоголосье ощутил пустоту, едва уловимую, словно в большом пении один голос замолк, и оттого лад весь перекосило: полно, густо, а всё же – не цельно.
А день нынче – «курьи именины», Кузьминки: девичий, шумный. Девки по дворам сговариваются на вечерние посиделки, у кого избу займут, да курицей всех угостит – так с древних времён повелось на Косму-Демьяна: проводить осень, встретить зиму, по-бабьи дом ладить, по-девичьи судьбу приглядывать. На стол у кого-то суп на курином бульоне, у кого-то пироги с курятиной, у кого-то – каша да простокваша, а главное – чтоб куры в хлеву сыты были: «почтить именинниц», чтоб неслись круглый год.
Дуня в омут – и до дна. Скребёнкой пол – щёлоком, щётка хрустит, золой тянет; горшки рядком, на каждом солью треска белеет; на столе ножи – длинные, короткие, костяные; на подоконнике – мак, как ночь блестит; рядом миска мёда, тягучего, золотого – Прокоша тянет пальцем и получает по рукам: «Не тронь!» – без злости, по-хозяйски. В печи бурлит куриный суп, жирные круги собираются к краям; на сковороде шкварчит лук; из чугунка пахнет пшеном; в кадочке – квас доигрывает, зёрна шевелятся, живой. Суета шумит: щёлк крышки, шип сковороды, стук половника, вскрик петуха из хлева, да всё по делу.
Соседки заглядывают одна за другой – кто словечко, кто совет, кто помочь (да больше понюхать чужую печь). «Старайся, Дуня!» – кивает одна; «После горя так и надо – делом себя держать», – шепчет другая, и уходит, унося на платке горячий пирожок на посиделки. Девки меж собой воркуют: «К вечеру к кому? У Маланки ли? У Акулины? Курей кто резал? Кому повезёт непереставаемо нестись?» – и прыскают, пряча смех в ладони.
Сивый Авдей к дверям липнет, как паук к сетке: ввалится боком, шапка набекрень, глаза водянистые, запах – брагой по всему сенцу. Бормочет беспрестанно, как молитву кривую: «Телега… вилы… ветошь… в поле…» – и рукою описывает в воздухе то яму, то грудь, то вовсе непонятно что. «Ступай, Авдей!» – его мягко поворачивают, он важно кивает и снова прилипает через полчаса, всё с тем же шёпотом. В деревне каждый знает: будет Михайлов день – будут «грязи» или «мосты», по погоде судить станем, а Авдей всё одно своё твердит.
Прокоша мельтешит: то мак толчёт глухо в макитре, то нос в квашню суёт (получает тычок), то во двор – у кур проверит, зерна подсыплет – чтоб именинницы довольны. Вечером собираются посиделки: прясть, шить, песни тянуть, гадалкины словечки примерять, – не святки ещё, не ряженье, а всё равно шепотной радости полно, девичьей. «Кузьма с Демьяном – покровители рукоделья и куриных дел, – старуха шепчет, – им догоди – и весь год богато пойдёт».
Охотник боком к столу, лицом к двери. Ему бы помочь – да он не мешает: у женской суеты свой такт, лезть – как в чужую песню. Сидит, следит, как Дуня поворачивается – плечо играет, повойник съехал, она не глядя раз-два поправит – и снова в круг. И всё равно время от времени – вдох, как крадучий шаг: ищет горечь – и не находит. Вместо неё – куриный жир, мёд, мак, чеснок, дым, тёплый квас. Пустота эта – как трещинка в миске: глаз не видит, а рука знает.
К Михайлову дню неделя. По дворам уж судачат: «Поди к двадцать первому то мосты, то грязь – Михайло перемостит или дороги разворит». Кто-то хлеб новый несёт к соседям – с миром поминуть трудовую осень; кто-то зовёт в гости: «На Михайлов день стол держим – пока мороз не прижал, угощайся!» У баб язык умолкает только у печи – там дело. У мужиков – на завалинке: на этом празднике миру мириться, дому – сытость, а зиме – порог.
Сивый Авдей ввалился снова, едва держась на ногах.
– Телега… вилы… ветошь… – бормотал он уже уверенней, будто обрёл в словах какую-то опору.
Дуня вспыхнула, замахала руками:
– Ступай, старый! —
– Нечего тут, – подхватила Арина, не поворачиваясь от кадки.
И обе враз как сговоренные, толкнули его к дверям.
Авдей обернулся, покачнулся на пороге и выдохнул почти трезвым, тяжёлым голосом:
– Не по-людски…
Он повернулся, задержался на пороге и, моргнув мутными глазами, сказал почти обиженно:
– Не по-людски…
И, вышел, покачиваясь.
К вечеру изба не остывает, а разгорается. В печи – куриный суп готов, пахнет щедро; на стол – пироги, рёбрышки свиные для мужиков (пока до Поста далеко); кутья не нужна – не тот день, зато каши полны горшки, «чтоб весь год в закроме не пустело». Дуня ставит перед ним миску: «Ешь». Он берёт ложку, глядит на Дуню: старается быть весела, губы тянутся, глаза от огня блеск берут. Всё в ней – «Живи – здесь, со мной, как у людей».
Ночь подступит с хрипотцой двери, с сонным кудахтаньем в курятнике (именинницы устраиваются на насестах), с далёкой человеческой беседой – то девичьи окна светятся, песня тянется тоненькая, не рождественская, а своя, ноябрьская, посиделочная. Охотник на крыльце задержится на один вздох, вслушается в темноту – нет ли в ней знакомой горечи. Не будет. Только дым, куры, квас и тёплая, густая деревенская жизнь перед Михайловым днём, где судят зиму по инею да туману, радуются сытым столам и тихо, в полголоса, перекрещивают порог – «чтоб мир да лад».
Глава 3. Первая смерть
Утро в деревне поднялось на крик – так, будто сам петух удавился чужой рукой. Сбежались со всех концов: кто в лаптях, кто босиком, дети с полусонными лицами, бабы с платками наспех накинутыми. Глядели, толкались, ахали: Сивый Авдей валялся посреди двора, как брошенная тряпичная кукла, а из груди торчали вилы – тупо, обыденно, словно он сам на них прилёг от усталости.
– Допился… – протянула одна.
– Ещё вчера шатался, – вторила вторая.
– А ведь нынче Ерёма, – добавляли другие, притишая голос. – Не к добру из дому вышел. В этот день, сказывают, нечисть сама на двор заходит: не то курицу подрежет, не то душу уведёт.
– И зачем в руки вилы взял? – слышалось. – Сам навлёк.
Слово «нечисть» крутилось меж людьми, как если бы названное и само притаилось тут же, за спинами. И чем больше говорили, тем сильнее каждый хотел убедить себя, что всё просто: пьянь да дурак. Но взгляд невольно тянулся к телу, и отводить глаза было страшней.
Вперёд вышел староста, Степан. Голос у него грубый, хриплый, как сухая кора.
– А ну, по хатам! Чего уставились? Не слыхали, что мёртвого зря глядеть – беду на дом тащить?
Он разогнал толпу, как овец: махнул рукой, сплюнул густо. Вскоре во дворе остались только он да Тур.
Степан в упор глядел на сына:
– Дурак он был, пьяница и дурак. Сам на вилы-то и насел.
Оба стояли над телом. Капли крови чернели на глине, запах браги всё ещё шёл от мёртвого, но Тур, глядя, не видел пьяного Авдея. Он видел вилы, вошедшие слишком прямо, слишком чисто, словно рука вела их с намерением. Присел возле тела, рукой по земле провёл. Сырость под пальцами, грязь, затоптанная, словно стадо коров прошло. Слишком много следов – искать правду поздно.
В избе стояла тягучая тишина – домашняя. Пламя в печи дышало жарко, окна запотели, на стенах дрожали красные отблески. Дуня сидела у стола, сгорбившись над миской густого клюквенного киселя. Алое в густоте темнело, переливалось.
Она зачерпнула деревянной ложкой, медленно поднесла ко рту. Кисель тянулся, густой, липкий: капля сорвалась с края, сбежала по её губе и притаилась в уголке. Тур подошёл, опустился рядом – пальцем стёр красное с её рта, медленно, неторопливо, словно сам не заметил, как рука потянулась.
Её глаза не поднялись, но щеки залились жаром, и дыхание стало чаще. Он задержал палец, почти коснулся её щеки – внутри налилось жаркое и тяжелое, потянуло: молодой запах кожи, пар от тела, густой дух избы, вкус клюквы, сладко-кислый, тянущий, как недосказанная ласка. Плечи её тяжёлые, крепкие, теперь просили опоры, грудь вздымалась неровно, а в глазах – настойчивое ожидание. Словно всё в ней откинуто прочь: осталось только это горячее – жажда.
– Куда на той ночи ходила? – голос его прозвучал резко, как хлыст
Слово упало, как в прорубь, – и всё тепло мигом обернулось холодом. Она вскинула глаза, в них мелькнуло – злость или страх, или что-то ещё, тайное. Щёки ещё горели от жара и от его пальца, а губы дрогнули, будто в них ещё жила та самая капля клюквы.
Не сводя с него глаз, медленно вытерла губы тыльной стороной ладони и почти шёпотом ответила:
– А хоть бы и никуда.
Глава 4. Похороны
Утро того дня выдалось смурное, тягучее. Ветер гнал по деревне клочья тумана, похожие на дым из потухших костров, и в этой мгле с хрипом да скрипом тянули Авдея. Скрипели полозья, а вслед за ними – людская толпа: кто крестится, кто шепчет, кто просто рот разинул, чтобы не пропустить зрелище.
Авдей лежал, как подобает покойнику: в свежей, хоть и грубой рубахе, руки сложены на груди, борода приглажена, как если бы он вдруг из всей своей пьянки в святцы метил. Только вид у него всё равно какой-то насмешливый: губы криво сжались, глаза словно прищурены – будто опять в кого-то целил брагой. На груди – маленький образок, на шею староста собственноручно повязал крест, чтоб уж без сомнений. Кладбище за деревней, у старой ограды, куда всех везли, откуда никто не возвращался.
Народу собралось порядочно, но жалости в глазах почти не было. Сбежались из любопытства – и кто ещё: бабы с повязанными платками, мужики, понурые, да ребятня, что тайком друг друга подталкивала локтями. Умер-то кто? Старый пьяница. Жалеть нечего, а вот то, как – да на вилы сам напоролся – это уж повод пересудить.
Бабы гудели, каждая норовила вплести свой голос:
– Ну, не к добру это всё, – приговаривала одна, носом шмыгала. – В Ерему, да ещё с вилами… сам смерть кликал.
– Ишь, не ведал, что в сей день нечисть по миру рыщет! – вторая пальцем тычет, видать, сама с той нечистью на короткой ноге.
– Слышали? ночью огонь у оврага плескался! Лесная шалила. Это ж её повадки.
Толпа зашумела. Кого-то перекрестило, кто-то расхохотался, мол, и сказочники нынче не дремлют. А тут уже и мужики не выдержали: один хмыкнул, другой подтолкнул соседа:
– Слыхал? Тень по улице шла, длинная, как жердь.
– Да то баба твоя в погреб!
Смех рванул, пусть и приглушенный.
Тур стоял молча. В груди словно заколотили: имя Лесной, едва брошенное, отозвалось болью, будто в самое нутро железом ткнули. Он глядел на толпу и на Дуню. Та, прямая, крепкая, стояла чуть в стороне, не прятала взгляда, но и слезы у неё не блестели. Слишком проста она, подумал Тур, … огонь в ней сыплется искрами, разлетится да погаснет. Замахнуться могла бы, могла бы крикнуть – но чтоб так, чтоб хладно и наверняка, чтоб вилами – нет. Не её это. А вот Арина… та, пожалуй, но баба же. И тут Туру вспомнилось, как тогда, в избе, зыркнули обе враз.
Народ тем временем продолжал гудеть о Лесной.
– Сказывали, ночь минула – тень меж дворов шла, коровы-то с утра молоком кислым пошли.
– Брехня!
– Брехня, не брехня, а у нас собака-то завыла, да не своим голосом.
Малец Митрошка и тот, давясь сиплым кашлем, выдавил:
– Отдать… должен я… Лесной.
Устинья, мать его, ахнула, закрыла рот его ладонью – да куда там, слова уже вышли, разлетелось, как воробьи с крыши.
Староста плюнул оземь, разогнал болтовню.
– Разошлись! Что вы, бабьё, воронье? Покойника провожаем. И хватит.
Когда гроб в яму опустили, когда бабы плакальщицы вытянули голоса, жалобные, но больше похожие на птичий гвалт, словно нарочно, Сивый Авдей снова ожил – уж не телом, а в памяти: «Телега… вилы… ветошь…» – и Тур понял, что так просто оно не обошлось. Он всё смотрел в землю – туда, где исчезал последний след. И чем больше слушал людскую болтовню, тем яснее чувствовал: за ответом идти в избу у оврага.
Поминки растаяли, как и не было их: чокнули кружками, шумно перекрестились, пробурчали про «царствие небесное» и разошлись. В памяти остался только привкус кислого кваса и глухой звон пустых слов. Никто особенно и не жалел – старый пьяница, кому он был дорог? Но смерть его тревожила, не по-людски вышло.
Тур вышел на улицу. Вечер обрушился холодный, мокрый, тянуло с Камня сыростью и инеем. У ворот поджидал отец, Степан-староста. Стоял, пригнувшись, и голос у него был глухой:
– Ты, сын, за теми ли ответами идёшь?
Смотрел так, словно хотел удержать, а слова всё же не задержали. Тур кивнул – и прошёл мимо, шаг за шагом, туда, к оврагу, где чернела изба.
Изба встретила его пустотой. Дверь скрипнула, изнутри пустотым холодом, как если бы давным-давно отсюда ушло всё живое. Печь мертвая, полы голые, по углам тьма – не жизнь, а оболочка одна. Тур зажёг лучину, и дрожащий огонёк метнулся по стенам. Он вымечал глазами, руками – скобы, полати, кадки, травы – всё обычное, всё безликое; потом руками: ладонью прошёл по лавке – только шероховатость дерева. Сунул пальцы в щели между брёвен – пусто. Поднял крышку кадки – вода чёрная, мёртвая. В кувшине – кислая похлёбка, в горшке – холодная зола.
Он перевернул ковш, сунул руку за печь, даже половицы в углу поднял – всё здесь было, и ничего не было: мёртвый дом, оставшийся без голоса.
И чем дольше он искал, тем крепче в душе оседала мысль: не было её. Не было никогда. Словно привиделось всё: и глаза, и запах, и её тень в лесу – только он один помнит, как сон, от которого сердце горит, а следа нет.
Лучина осыпалась, погасла. В темноте Тур ещё раз шарил руками, цепляясь за невидимое, пока пальцы не задрожали – от холода или от бессилия, сам не знал.
Он вышел на крыльцо. Ночь ударила в грудь. Камень за соснами дышал медленно, словно тяжёлый зверь. Иней серебрился под луной. Луна висела белая, пустая, как лицо без глаз, и её свет делал всё вокруг неживым, будто он был не на краю деревни, а в иной тьме.
И тогда из груди вырвалось – не крик, не слово. Вой. Глухой, звериный, протяжный. Он разорвал ночь надвое, ударил в небо и упал обратно, звеня в ушах. И казалось, что сама земля на миг дрогнула, и лес замер, и даже луна качнулась в вышине. Так воют, когда теряют душу, когда в груди остаётся одна безысходность. В этом вое было всё: тоска, ярость, потеря, то, что не выразить человеческим языком. Вой рвал душу так, что, услышав его в деревне, – быстро крестились, думая, что то нечисть ищет себе дорогу в людские сердца.
Глава 5. Деревня
Дни потянулись серыми, невесомыми – не рассвет, а пепел на листьях. Крыши мокры, огороды в лужах, дым из труб стелется низко и тут же расползается по дворам, как тёплая тряпица. Камень лежал невидимо, но чувствовался в каждом вдохе: тяжёлый хребет за морем сосен держал небо, и от того в деревне всё шло не спеша, как под грузом.
Жизнь, однако, тянулась своим порядком. Корова мычит у ограды, тёлка сопит, пар из ноздрей – маленькими облачками. В воротах скрипят вереи, мальчишки гонят гусей к речной яме, где ещё держится вода. По дворам – стук топора, короткий, деловой; где-то далече звякает пила по смоле; у печей гудит огонь, и в каждом доме свой запах: у Арины – кислые щи да квасная закваска; у Евфимьи – тёплая простокваша; у кузнеца – мокрый уголь, железная сыть да тягучий дух горелого сала. Женский говор перекатывается, срывается на смех и тут же прячется, будто сам себя стыдится.
На выгон, где трава уже выщипана до корешков, а меж кочек торчат чёрные клочья, выходит Тур-охотник. Не торопясь. Лицо обветрено, глаза прищурены. С тех пор, как вернулся из Избы, стал убираться в лес всё чаще: то с силками уйдёт, то со шкурами вернётся, а то и пустой – и всё одно, будто не добыча ему надобна. В нём поселилось пустое, сосущее; днём оно терпит, но ночью в груди шевелится, как голод. И даже снов нет – ни дурных, ни с утешением. Пусто и во сне, словно во рту вода: ни слова, ни образа. От этого пустого – хуже всего.
Дуня на вид спокойна. Непривычно. Делает, как надо: стирает у реки на плоских камнях, пока руки в ледяной воде коченеют, щепой трёт ладони, потом гладкой костью полосу сгоняет, ставни вытирает, муку сеет – и молчит. Не смотрит в глаза, не цепляется за рукав вопросом, куда ходил, не жжёт ревностью. Словно в ней что-то отслоилось и улеглось. Не холод, нет – порядок. Тот самый женский, хозяйский: квашеная капуста пересыпана тмином, кадка свежей дубовой щепой пахнет, на лавке белеет сырец – мягкий, свежий, только из берестяной формы и ещё влажный по краям; на сволоке – охапка луковая, связанная аккуратно. И вроде бы так оно и должно, а Туру именно эта ровность странна.
Подружки её объявляются одна за другой – толи случайно, толи делом. Арина – сухая, злым глазом, с узелком тряпицы: «слухай, Дуня, соль одолжи щепоть»; Феня – язык стреляет, рот сладкий, а слово всегда боком; Маланка – смехотунья, сама как осеннее яблоко, румяная; Дотка – курносая, быстрая, вечно в чём-то мельтешит. Сядут на пороге, поворотят платки и шепчутся – не вслух, в уголок рта: вроде про квашню, про пряжу, про Михайлов день – да у каждой взгляд оступается, как на гнилой доске. Видно, что у них внутри что-то зудит: хорошо-то хорошо, а всё ж грех. Никто, мол, ничего не знает – и все знают.
Толки про Авдея не смолкают. Всякий двор – со своей приметой:
– В Еремин день он к железу руку приложил, – у Евфимьи говорят. – В сей день, сказывали, смерть ходит рядом, не тронь лишний раз железо – подтолкнёт.
– Да не сам он, – шепчет старуха Фетинья, – я ночь сидела, свечку жгла – внятно слышала, как за околицей кто-то шуршит и поногами по мерзлой траве скребётся.
– Пьян был, – отрезает кузнец, – пьяная дурь – прямой путь к яме.
И тут же добавляет негромко, без поучений:
– Железо поёт – слушай. Когда песня ровная – житьё ровное. А нынче у наковальни глухо. Не по нраву мне.
Кузница у оврага стоит отдельно – от деревни подальше, чтоб огонь не схватил чужую кровлю. Днём там полутьма, жар, меха вздыхают, как старик; тиски, клинья, молоты – всё на своих местах. Кузнец Гаврила глядит на Тура при встрече внимательно, не глазами – лбом, будто мыслью трогает: «Держись, мол. Что петь перестало, само не запоёт». И снова к железу. Мужик он сдержанный, слово редкое.
Евфимья, крестная, заглянула к Дуне вроде бы по делу – порожки золой присыпать от скользи да хлеба вынуть. Посидела на лавке, вздохнула, рубчик на платке поправила.
– Уныние – грех, – сказала негромко, без укола. – Но и веселиться поспешно не надобно. Смерть одна не ходит.
Сказала – и молчит, руки на коленях сложила. Не в пророчицы лезет – памятью говорит: видала, как бывало. Ушла тихо, без советов лишних, оставив после себя запах печи и тёплых тряпиц.
Митрошка день ото дня кашляет все глуше. Сухо, надрывно, в груди застревает. От кашля лицо белое, как тесто. Устинья его уводит в избу, завязывает старым платком, а он, едва стихнет, всё на порог норовит, будто воздух на дворе другой. И раз, проходя мимо Тура, сказал так, что едва слышно:
– Отдать надо. Лесной.
И глаза у него – не детские совсем. Сказал – как в воду кинул камешек, и пошёл дальше, за мать спрятался. Устинья крестится, бормочет, сама не понимая – от дурного ли, от страха ли.
На площади, коробейники, да офени торговали холстом, лентами да ладаном, нынче пусто. Только мальчишки бегают за облетевшей берёзовой метёлкой по ветру. На церковном крыльце поп Савватий коротко беседует с теми, кто подошёл свечку поставить: говорит не строго, а злостью дерёт – про нечистое отродье, про лицá бесовские. Евфимья потом шепнёт: «не лицá – лики». Да кто её слушает – у всякого своё в голове.
Дуня живёт в этом шуме как в воде: всё при ней, споро, руки крепкие, движения быстрые, взгляд прямой. В ней пыл таился – живой, горячий, он чувствовался даже в том, как она хлеб резала или плечом ведро подхватывала; у него ж к ней слова сухие, как вязанка, странное внимание – не к бабе молодой, не к жене своей, а к недомолвке, что появилась в ней – охотник, звериным нутром чующий добычу в силках.
К вечеру, когда туман наползает на улицу и лошади сопят в упряжи, собирается новый разговор у ворот.
– Авдея схоронили – да на этом ли конец? – говорит один.
– Не к добру тишина, – вторит другой. – Слыхал, как ночью собаки смолкли разом?
– Смерть одна не ходит, – подытоживает Фетинья. – На одно погребение – второе наготавливай. Так повелось.
И каждый делает вид, что слышать подобного не желает, а сам оглядывается – словно тень ищет.
Тур-охотник уходит к околице. Не спешит, но идёт каждый день, тропу приминает. Сетки чинит, нож правит, ремни смолой обтирает – всё при нём, а нужного – нет. Внутри пусто, аж сосёт под ложечкой, как перед долгим шляхом без воды. И настораживает его не то, что пусто, – а то, что даже ночь теперь немая, без снов. Раньше снилось: тёмный бор дышит, на воде – чёрный просвет, из листвы глядят чужие глаза; наст режет щиколотки, колокол воет без языка, а в самом конце – шёпот с горечью полыни. Нынче – ничего. Чёрный плат, и под ним тишина.
Дуня провожает его взглядом. Не держит, не спрашивает. Лицо ровное. Странно это: не по её характеру. Быть бы злости, упрёку – нет. Она, кажется, стала слушать не его шаги, а деревню. Как дышит. Как у кузнеца железо звенит. Как в церкви колокол коротко, с хрипотцой. Как в соседнем дворе у Арины куры шумят без причины. Словом – жизнь. И словно ждёт, когда эта жизнь сама подскажет, куда смотреть.
А деревня живёт и настораживается. В кадках бродит репа
, в печах сохнут лапти, под тыном щебечет поздняя синица – сбилась, худая. У заборов треплются тряпицы, на веретенах ложится свежая нить. И поверх всего – тихий гул имени, которое никто не произносит вслух. Не из страха – из опаски нарушить зыбкое равновесие, пока всё ещё держится.
К вечеру в кружечном дворе два мужика спорят, раскрасневшись: один твердит «сам на вилы», другой шепчет «не без руки». Третий, едва войдя, прикладывает палец к губам: не шуми, мол. И по всей деревне – та же нота: ежедневность, в которую примешали щепоть незримого. Хлеб всё тот же, да вкус иной.
Тур-охотник возвращается поздно. На дворе темень, двор гудит пустотой. Дуня сальную свечу прикрывает ладонью, чтобы не коптила, и глядит, как он снимает армяк, развязывает ремень. Он молчит. И тишина между ними не ссора, а как недосказанная история, где не хватает одной главы. Какой – ни он, ни она не знают. Только чувствуют: она уже написана, но пока не прочитана.
А в соседней избе Митрошка снова кашляет. Кашель уходит в ночь, как камушек в колодец. И откуда-то из леса, из-за Камня, приходит короткий порыв ветра, и все в деревне на миг замирают не понимая почему. Потом опять – щи, каша, детский плач, стук оси в телеге. Всё как прежде. Только каждый, поворачиваясь к двери, слушает не ушами – кожей. И не говорит об этом.
Так проходит день. И кажется – ещё один к нему прибавится, ещё один, а там и зима встанет. Но в каждом шаге, в каждом словце прячется то, что называет Фетинья: смерть одна не ходит. И никто не знает – к кому придёт следующая. А Тур-охотник идёт к околице всё тем же шагом: будто вытаскивает из земли след, которого не видно.
Глава 6. Охота
Серым, сырым утром Тур-охотник ушёл в лес. Ноябрь здесь – глухой месяц: птица притихла, белка в дупле сидит, лиса ходом редеет. Работают теперь не столько руки, сколько терпение да глаз. Он шёл знакомой проториной, где в ельнике тянулись его самоловы: тут – петля на русака, привязанная к согнутой берёзовой плётке; ниже – капкан на куницу у осинника; в ложбинке – кулёмка-глухарь, тяжёлый обвал из жердей с щепным спуском, что сработает на лёгкий нажим. Петли мокрые, без следа; капкан пустой; у кулёмки только присыпанный дождём отпечаток – старый. Он пошёл дальше, проверил тенёта на «куньей дорожке», подтянул ремешы, сменил приманку: кусок сушёной рыбы, чуть смолой подкоптил, чтоб тянуло «вкусно».
В распадке снег взял коркой – ночной наст прихватил, но не держит: нога рвёт ледяную плёнку, хрустит тихо и зло. Он думал, когда уж лёд стянет крепко, на лыжи с камусом станет – тогда и ход другой: мягкий, кошачий, а скользь идёт навстречу сама. Камус на подшив – конская или лосиная шкура с волосом – держит от отката, а вперёд скользит, хоть по уклону, хоть по насту – дед любил так ходить – тихо и далеко.
За ельником, у бурелома, взял его нос – не звериный дух даже, а тишина иная. Обочином, через валежник, нырнул в низинку – и нашёл вход: вход узкий, влажный, тесный, обжатый землею, как щель, что сама себя стережёт. Кромка мха блестит, как от тайного пота, и в тёмном овраге корни свисают нитями – словно волосы, спутанные, прилипшие к краю. Там – прохлада живая, влажный вздох. Берлога. По времени – самое то: бурый уже лёг, к зиме узнастись хочет; к этой поре пустеют тропы, а у нор – чисто (старики ровно так и говорили). Тур сел на корточки, послушал. Шума нет, только гулкая пустота в самом нутре, как в бочке. Он не полез. Обошёл кругом – смотрел, не приметится ли «дых», не отдаст ли щёлочкой тёплым, – и отступил.
К полудню развёл огонь кресалом – трут из трутовика раздувает не сразу, сырость въелась, но пошёл огонёк, вода в котелке коротко вздрогнула, чай вышел терпкий, с хвойной горчинкой. Ел постыло – кус хлеба да корочку сыра, которые Дуня с утра кинула в торбу. И снова пошёл. Он искал зверя – да не зверя. Глаз цеплялся за повал, за омшар, за узкую тропку в чаще, где иногда, по весне, человек себя бережёт от веток. Внутри жило другое: насторожка. Не сказать зачем, а всё равно ищет.
К вечеру – в деревню. Дым низко, печной угар, кисло пахнет капустой – квасят во всю: кадки на завалинках, доски мокры, слеги липкие. С выгона собаки лениво тявкнули – и смолкли. Тур завернул к Устинье. В избе стылый пар да кашель, тот самый, рвущий, как гвоздь по доске. Митрошка худ, виски мокрые, губы треснутые. Тур сел на край лавки, ладонью – ко лбу: горит.
– Держись, – сказал негромко.
Мальчишка кивнул и вдруг, не глядя, точно сам с собой, сипло вытолкал:
– Отдать… Лесной…
– Что – отдать? Повтори! – Тур нахмурился.
Но Митрошка уже свернулся, кашлем забился, и из тряски той ничего больше не вышло – только шепоток и Устинья, суетливая, платком горло ему подвязывает, шепчет: «Полежи уж… полежи…»
Сумерком он вошёл в свою избу. Дуня у печи – рука сильная, широкое плечо под рубахой, прядь к виску липнет. На столе – каша, хлеб, кринка кваса. Тур молча сел. Дуня глянула прямо, без пряток:
– Зря ищешь. Нет её.
– Откуда знаешь? – спросил он, не поднимая глаз.
– Знаю. – Она вытерла руки о холст, у печи остановилась, слегла тень от плеча. – И не ищи.
Он не ответил. Ел молча, слушал, как в углу лапоть сохнет, потрескивает, как в печи дрова оседают. А в голове – моховая темнота берлоги и пустота внутри неё, не звериная. И мальчишкин шёпот: «Отдать… Лесной…»
Глава
Глава 7.
Карачун
Ночь Карачуна – самая чёрная в году. Солнце умирает, силы нечистые прорываются в мир людей, и всякая тварь бестелесная шатается меж изб, ищет, где бы зацепиться. В эту ночь все знак и все – дурной: собака завоет, корова тревожно замычит, птица под крышей крылом забьёт. Хлеб в этот день не режут, ножи прячут, чтоб не накликать беду, и за порог лишний раз стараются не ступать: кому знать, что там, за тёмной межой.
Среди этой тягучей тьмы, стояла деревня – словно остров, окружённый со всех сторон как водой, чёрным морем леса, в котором бродили голоса да шаги, которые не надобно слышать. В каждой избе теплились огоньки: тепло настороженное, не для уюта – для защиты. Люди знали: нынче Солнце мертво, под землёю лежит, и никто не ведает, возродится ли вновь. Потому свет в избах – как обет, как страж у порога: погаснет – и тьма возьмёт своё, войдёт без спроса, застелет дыхание, душу стянет.
Дети шёпотом тянули за рукав: отчего окна заткнуты тряпьём? Матери отводили глаза, только перекрещивали пламя в лучине; а отцы хмуро молчали, точно понимали: стоит дрогнуть огню – и не утро придёт, а вечная ночь. И сама деревня, сжавшись в темноте, сидела, как у последней свечи мира, боясь, что её дыханием задушит.
На выгон, где обычно гоняли скот, вынесли солому. Парни, стесняясь собственной важности, подожгли – и в тёмное небо взметнулись искры. Пламя рыже облизывало мороз, щёлкало сухими сучьями, и казалось: звёзды на миг стали ближе, как зерно в сите. Тут же притащили старое колесо – водружённое на жердь, его крутили, чтобы «солнцу помочь поворачиваться», – пели вполголоса, а бабы, не глядя, крестились: не шутка ночь нынче, длинная, на дне её ходят те, что из Нави, и слово не каждого человека сегодня – человеческое.
Словно некстати, вывалился на огонь Игнат, дружка бывший Охотника, уже с полудня поддатый. Плечо косит, шапчонка набекрень, на усах инец искрится, а голос скрипит, как не смазанный ворот:
– Эх, глядите-ко, ночь-то нынче Карачунова… – и, присев к пламени, добавил гадливо, громче, чтоб всем: – Нашей Лесной теперь раздолье: тьма ей под стать. Не к нам ли, а? Не согреться ли ей возле живого огня, чтоб, значит, глянуть – кто тут посмелее?..
Пара парней хохотнула, дески – «тсс!» – да перекрестились разом, так что огонь на миг дохнул в их ладони, как зверёк. Кто-то буркнул: «Не поминай в ночь такую…» Но Игнату только этого и надо, пущай щекочет: злое слово да по длинной ночи – вкусно.
Вертлявый, тонкоплечий, с прищуром всегда насмешливым, он первым заметил Тура.
– А-а, охотник наш! – выкрикнул, вытянув шею. – Гляньте-ка: пустой опять! Не то зверьё нынче хитрее стало, не то сам в силки запутался.
Смехом ответили ему, но не громко – каждый на Тура косится: высокий, тяжёлый, с лицом как из камня, не к доброй шутке. Раньше Тур на эти выпады рукой махал, усмехнётся – и дело с концом. Но Игнат теперь будто бы знал, куда колоть.
– Аль всё в лесу у ведьмы силы оставляешь? – хохотнул он грязно. – Оттого Дуня твоя и не отяжелеет, что не мужской ты к ней дорогой ходишь. Всё баба та лесная тебя высосала, вот и пустой в избу возвращаешься!
Тур молчал миг, дыхание в груди гулко стукнуло. В круге вдруг стало тесно и тихо. Даже огонь словно осел, только потрескивал сухой сучок.
Игнат подскочил ближе, вытянулся, чтоб равным стать.
– Ну что, охотник? Правду говорю?
Тур шагнул к нему, схватил за ворот, сжал так, что ткань затрещала, но не ударил. Держал, пока глаза Игнатовы не дёрнулись. Потом толкнул прочь, как пса дворового.
– Ты, Игнат, храбрец перед девками да костром. А в лес пойдём – где твоя удаль? Там не бабьи уши слушают.
– Пойдём! – взвизгнул Игнат, уже сам загнав себя. – Вот завтра и глянем, кто в лесу смелый, а кто лапоть.
– Завтра, – повторил Тур насмешливо. – Там и проверим, чья сила, чья трусость.
Смех снова прорвался в круге, но смех не веселый – с оглядкой, с хмурью. Тур отвернулся, отошёл от огня. В груди жгло, во рту словно привкус гнилого яблока остался. Словно что-то скверное он проглотил и теперь не сплюнуть, не выдохнуть.
Обойдя выгон, дошёл до своей избы. Поднял руку к двери – и в ту же самую минуту петли жалобно вскрикнули. Скрип вытянулся тонкой струной, как если бы кто-то невидимый провёл ногтем по душе. Дуня вздрогнула так, что из её рук выскользнула крынка с молоком. Белая струя брызнула на пол, расползлась по доскам.
– Вот, – прошептала она, не глядя на мужа, – это к худу. Скрипит, коли хозяина дома всё нет… Ты, Тур, беду с собой в дом ведёшь.
Тур молча кивнул – и в словах Дуни признал правду. Уходил он часто, точно изба для него не пристанище, а место, где ночь перебыть. А Дуня… Дуня держала порядок, как заведено.
К Карачуну всё у неё соблюдено: клочки снега к порогу – «Мороза накормить», уздечки для скота крест-накрест – «чтоб злые не развязали счастье», в углу тянулись два огонька – не простые сальные, а восковые свечи, припрятанные нарочно для этой ночи. Чистая скатерть ровно застлала стол, словно сама земля снегом укрылась. На блюде пироги с маком, зерно во тьме ночи силу держит. Горшок с гороховой кашей – к сытости и крепости. А рядом кувшин узвара – из сушёных яблок да груш, пахнет дымком и осенью, как бы связывает ныне живых с теми, кто уже под землёй. Репа печёная румянцем светилась, словно тёплый свет подземного солнца. Мёд в миске густо блестел, как хмельное напоминание, что зима не вечна. Всё это не для утехи, а чтоб ночь сдержать, не пустить тьму за порог, чтоб каждое блюдо стояло, как оберег.
Дуня осторожно поднесла к Туру ладоням кувшин узвара, горячий и тёмный, из сушёных яблок и груш, настоянный с мёдом и тёмными ягодами. Тур прищурился, как охотник, что смотрит вдаль: тонким паром подымался аромат – сладкий, запоздалый, но тревожащий. Он сделал глоток – и замер. Во рту разлилась едкая горечь: не то сладость сбродила, не то сушёные фрукты сгорели, не томлённые, – острый привкус, как рана, протекшая через язык.
Он выплюнул чуть было не сразу – и Дуня отшатнулась, лицо потемнело. Она будто вспомнила что-то: что в спешке, забыв, бросила в узвар ягоду брусники – прошлогоднюю, пересушенную, с полки в чулане. Ягоды хрупкие, шелушащиеся, и от них вся сладость перебилась. Тур, молча, убрал кувшин. Упрёк его не звучал вслух, но в ее взгляде было тихое принятие: да, ошиблась. Но хуже горечь – если бы не вошла темнота в напиток, не вкралась в дом сквозь неровно закрытую дверь.
– Не так сварен, – сказал он наконец, ровно, – в следующий раз справнее выйдет.
Некоторое время ели молча: лишь скрип ложек да потрескивание свечи нарушали тягучую тишину. Тур потянулся за пирогом, потом поднял взгляд:
– Что ж Устинью не позвала, по-соседски?
Дуня вздрогнула, но ответила сухо, не поднимая глаз:
– А к чему? Заразу в дом тащить. Да и не смогла бы она – Митрошка совсем плох, уж и не поднимается.
Тур хмыкнул коротко, почти сердито, отставил ковш.
– Собери чего, – бросил через плечо.
Взял узел с хлебом да горшочек, что сунула ему Дуня, и вышел в ночь. Свеча дернулась от сквозняка и на миг осветила её лицо – суровое, упрямое, точно сама себе доказывала, что правда ее.
Печь у Устиньи дымила, но в избе всё равно было холодно: холод от болезни – иной, не печным жаром берётся. Митрошка лежал, лёгкий, как соломенный куколь, и дышал порывами, будто его тянули со дна. Кашель, сухой, со скрипом, раздирал грудь; в паузах между толчками слышалось, как тёмная ночь шевелится в оконной раме. Устинья сидела рядом, губы обожжены молитвой, пальцы синие от холода, и в её взгляде – то зрячее терпение, какое бывает у тех, кто уже понял без слов. Тур присел, положил ладонь мальцу на лоб – огонь под кожей. Тихо сказал:
– Держись.
Мальчишка глянул на него издалека, как с другого берега; губы тронула улыбка – словно он увидел кого-то своего, давно знакомого. И едва слышно, выпуская воздух:
– Отдать… Лесной… долг…
Последнее слово слетело легче остальных, как снежинка, и тишь стала иной: не пустой – остановившейся. Устинья мотнула головой, прижала мальчишкину руку к щеке, зашептала вперемешку молитвы и простые слова, какие говорят, когда слов больше нет.
Тур сидел до конца, пока длинная Карачунова ночь не свернулась к утру. Знал – так положено: с таким дыханием не спорят. Он слушал, как где-то вдали потрескивает на ветру ограда кладбища, как по щели под порогом тянет звёздным холодом, и как в печи шёпотом оседают угли – когда сам свет экономит силы, чтоб дожить до рассвета. Он не молился – просто был рядом, как бывают рядом в лесу, когда зверь ложится и больше не встаёт. И, может быть, потому мальчишка улыбался – словно в долг отдал ему самую последнюю, лёгкую долю своей боли.
Когда всё стихло, Тур поднялся. Ночь ещё была, но уже светилась изнутри тусклым стеклянным мраком, предрассветным; и в этой стеклянной тишине вдруг остро почувствовалось: граница пройдена. В деревне погасят огоньки, снимут с лавки лишнюю ложку, сметут с пола мак и зёрнышки, разотрут следы ночных слов – а Карачун уйдёт, оставив в избах пустоту размером с человеческое сердце. И от этой пустоты Туру стало зябко, как будто в груди завёлся маленький зимний сквозняк.
Он вышел во двор – снег скрипнул тонко. По деревне шёл едва заметный гул: где-то в сенях роняли ведро, где-то стукнули о косяк, где-то дверная доска отозвалась глубоким басом – ночь отзывалась самой себе. На выгонной яме догорал костёр, колесо для солнца притихло, припорошенное инеем. С неба сыпался сухой, почти невидимый снег – как мука из старого сита. Тур постоял, глядя, как белое садится на рукав, и подумал – без слов: ночь прошла свой круг, сегодня что-то родилось и что-то умерло. И, может быть, это одно и то же.
Глава 8. Сон
Тур вошёл в избу тихо, чтоб ни одна половица не подала голоса. Тьма стояла густая, только угли в печи дымились красноватым дыханием. В этом полумраке угадывались очертания: на лавке, сбившись в клубок, сопел Прокоша; ближе к печи – постлано сено, поверх рогожа, шуба, и там, на тепле, дремала Дуня.
Охотник шагал осторожно, чтобы не скрипнула половица. Снял кафтан, склонился – почувствовал её дыхание, тёплое, ровное, как у человека, что весь день работал и от усталости спит без сновидений. Лёг рядом, натянул на себя полушубок, повернулся к стене. Печь дышала жаром, но не грела – внутри у него холоднее, чем за окном.
В сон провалился мгновенно, как в прорубь.
Тьма – рот. Широкий, мясной, сырой. Дышит в лицо – тухлым, тёплым, сладко-гнилым.
Как будто мёртвая грудь, ещё тёплая, подалась к губам.
Мох – скользкий, как кожа под потом. Корни – жилы, набухшие, пульсирующие. Сырость – не вода. Гной. Кровь. Скисшее молоко. Запах бьёт в горло – тошно, сладко, липко.
Внутри – не пусто. Шевеление. Слипшийся ком. Старая плоть. Гниющая, но не умершая.
Тьма, что жрёт тьму. Пьёт из страха, сосёт из болезни, хлебает смерть.
И Тур слышит: пьёт его. Каждый вдох. Каждую жилку тепла. Сердце сжимается – точно уже не в груди, а там, внизу. Бьётся в чужой утробе.
Качает. То вверх. То вниз. Не колыбель – череп. Не матка – могила. Но голос – как материнский. Ласковый, липкий.
– Сними кожу.
– Сними имя.
– Вернись.
– Растворись.
И он ползёт. Грудью в чавкающий мох. Лицо в тёплую грязь. Язык чувствует вкус железа.
Зубы скрипят о камень, как о кость.
Руки исчезают. Тело – вода. Кости – ил. Он тает, втекает внутрь.
Щель захлопывается. С хрустом. С визгом. Как челюсть. Как пасть. И в миг – темнота впивается в горло. Холод рванул в грудь. Крик застрял в горле.
Тур проснулся: рывком, в дрожи, в липком поту. Глаза – в темноту избы, дыхание рваное, сердце молотит. На миг – только миг – воздух качнулся и донесся тонкий запах. Горький. Полынный. Словно прошёл кто рядом, едва коснулся.
И исчез. Словно не было.
Тур вслушивался. Тишина. Только печь треснула угольком. Только собственное дыхание.
Дуня прижалась к нему. Со сна разопревшая, вся тёплая, пахнущая домашней бабой: кислым молоком, луком, потом. Волосы – чуть влажные на висках, прилипли к коже, щекочут. Изо рта – сонное дыхание, тяжёлое, с хмельной кислинкой, как хлебный квас перекис. Глаза полуприкрытые, с мутной дымкой сна, и в них мягкая, тянущая нежность. Её руки обвили его шею, крепкие, привыкшие к коромыслу. Она вся тянулась к нему, теплом, кожей, дыханием – словно хотела вобрать в себя.
А ему – тошно. То ли от сна, что ещё не отпустил. То ли от неё самой. От этого запаха пота и молока, от влажных волос, от мягкой тяжести тела. Будто что-то липкое снова навалилось, снова давит, снова зовёт внутрь.
Аккуратно, тихо, почти незаметно он вывернулся из её рук: осторожно, чтобы не разбудить до конца, чтобы не взглянуть ей прямо в глаза. Сел на край лавки, почувствовал, как холод пола подбирается к ступням.
Не одеваясь, босой, с голой грудью, с плечами, на которых ещё держался сон, шагнул к кадке. Зачерпнул ковш браги – полный, тяжёлый. Хлебнул жадно, горло прожгло кисловато-горьким, захлестнуло. И, держа ещё влажный ковш в руке, толкнул дверь.
Холод зимний полоснул сразу, как нож. Лютый, сухой, звенящий. Он вышел, как был, раздетый, на крыльцо. И стоял – грудью в ночь, в глухую тишину, где только снег потрескивал да из трубы тянулся тонкий дым. Воздух был резкий, с запахом угля и инея.
От голого тела вставал пар, от дыхания валил густой туман, сразу белый, тяжёлый, точно он выдыхал саму зиму. И казалось: лучше уж это – холод, пустота, ночь, чем то, от чего он только что ушёл.
Утро накрыло деревню, как тяжёлый котёл, полный гулкого шума, запахов и людской суеты. Избы открывались одна за другой, словно пасти, из которых вываливалась жизнь: кто с вёдрами, кто с ухватом, кто с криком на ребятишек. На снегу, ещё сером от утренней темноты, копошились люди – каждый спешил, каждый что-то нес, кто полено, кто кочергу, кто ведро воды, и отовсюду доносились то стук, то лай, то звонкий скрип саней по насту.
Всё это было похоже не на обычное деревенское утро, а на какой-то ярмарочный бедлам – но с одним, тягучим, чёрным привкусом: готовились к похоронам. Митрошка лежал мёртвый, худой мальчонка, которого всё жалели, но жалость была простая, деревенская, недолгая: помрут – и ладно, у каждого своё. А между тем в каждой избе перемигивались: «Не к добру, ой, не к добру. Один – на вилах, другой – в гробу». И слова эти, сказанные полушёпотом, жили в воздухе, как дым.
Тур сидел в сенях, натягивал сапоги, и всё нутро рвалось вон. Ночью он уже простился с Митрошкой – тихо, без слов, глядел в серое лицо, дотронулся до руки – ледяная, чужая. Сжал пальцы, отпустил: больше нечего держать.
Тянуло в лес, туда, где холод, где тишина, где снег хрустит под ногой как кость, где нет ни голосов, ни запахов похоронных, только звериная тропа и следы, что ведут вглубь. Игнат ввалился в сени, как с ярмарки: плечом в косяк, сапогом по полу грохнул, чтоб гул пошёл. Рожа красная, как жбан кваса, а глаза мелкие – шнырь-шнырь, ищут, где бы спрятаться.
– Ну что, Тур! – гаркнул он, так что даже кошка из-под лавки шарахнулась. – Пора! Мужики ж не баба – слово сказали, держи!
И грудь вперёд колесом, руку на пояс, а сам в этот миг краешком пальцев лоб чиркнул – крест, да так скоропалительно, словно мошку сгонял. На Дуню скосил глаз – мол, смотри, какая удаль, а сам в усах весь мокрый, губа дрожит, дыхание сипит, как меха дырявые.
И тут же сапог на пятке съехал, заскрипел. Игнат поддел носком, заматерился сквозь зубы:
– Чёртово… – и глянул так, что видать сам нечистый под каблуком сидит. Подтянул, пнул, да ещё пуще покраснел, чтоб никто не догадался, что ноги у него, как у перепуганной кобылы, дрожат.
Но куда денешься? Вчера ж при девках выпятился: «Я, мол, первый в лес пойду, хоть там сам леший на пороге!». А нынче – хоть сгинь, хоть в яму. Слово-то сказано.
У Тура в груди дрогнуло облегчение. Да, идти. Уйти. Словно кто-то отвязал цепь с шеи.
Дуня же подорвалась.
– Куды! – ахнула она, хватаясь руками то за косяк, то к самой себе. – Один с утра хмелен, другой с ночи ещё пьяный… И в лес!
Тур поднялся, сунул за пояс нож, шапку поправил – и шагнул, как если бы ничего иного не было и быть не могло. Вышел уверенно, скупыми движениями, как зверь, что идёт по своему следу: ни лишнего взмаха, ни лишнего звука. Игнат следом, тяжело дыша, сапогами гремя, плечами размахивая шире, чем надо – спешит, подстраиваясь под Туров шаг, вытягивается, тянется. Один, как зверь в своём лесу, другой – как скоморох при нём, пытающийся идти в ногу.
Глава 9. Игнат
Под вечер снег серый, тяжёлый. Тур идёт, молчит. За плечами верёвка врезалась в ладони, пальцы онемели. На рубленых лапах хвои – Игнат. Тур тянет низко, плечами, как зверь: вдох короткий, шаг скупо, дыхание рвётся белым паром. Спина мокрая, мёрзнет мгновенно, пар вмиг берет инеем.
У ворот уже люди. Кто зябко шмыгает, кто крестится торопливо, кто только глаза в снег уткнул. Толпа лезет ближе, но боится подступить.
Степан вышел первым. Староста. Глядит пристально, без слов, как рубит полено.
– Как оно? – спросил тихо, будто через зуб.
Тур поднял голову.
– С похмелья ступил в железо. Я не уследил.
Толпа вздохнула, как печь провалилась. Игната – в избу. Половицы стонут, дверь скрипит. Кладут на лавку, под ноги – охапку хвои. Капкан снимают. Сначала не идёт, мёрзлый металл тянет мясо, как зуб клещами. Тур подсовывает кол, разжимает дуги. Игнат в этот миг цедит меж зубов тонкий, девичий стон – не крик даже, жалкая струйка. Края раны расползлись бахромой, как порванная рукавица. Кожа синяя у зубьев, между железа – клочок мяса, держится на жилке. Кровь сперва не идёт, потом рывком – тёмная, густая, тягучая. Запах сырого железа и хвои. Кто-то плеснул браги, кто-то прижал тряпку. Тур глядит в упор. Лицо камень.
Игната стреножили ремнём, чтоб не дёргался, ногу к лавке прижали. Щёки у него красные, на висках пот, дыхание жаркое, злое. Вроде бы полегчало, только глаза бегают, как мыши. Женщины шепчутся, мальчишки тянутся на цыпочки, старики качают головами: железо закусило – плохая примета.
Ночь пришла – тяжёлая, вязкая. Снаружи треснул мороз, а в избе душно, пахнет брагой, хвоей, кровью. Игнат лежит, губы побелели, шуток у него нет. Спит клочьями, просыпается руганью, просит пить, потом шепчет, что во сне его кто-то тянет в темноту, где тесно и зубами скребут.
Дни пошли. Вначале вроде бы лучше. Рана туго, тянет, вокруг потемнело, распухло, ломит до паха. На третий день заметили: рот не открывается как следует. Зубы свело, губы распяли, и лицо его вытянулось в злобную усмешку – не людскую, а звериную, в которой жила одна лишь мука. Челюсть свело – пальцем не разжать. Глотать тяжело, воду пьёт по капле, давится, кашляет. Каждое слово как через жмых.
К вечеру – хуже. Спина деревянная, шея не ворочается. Вдруг дернёт всем телом так, что лавка подпрыгнет. В избе шорох – детишек выгнали, лампу прикрыли тряпкой. Любой звук, любая тень – и Игната гнёт дугой, пятки в доски, затылком в стену, зубы звонят, слюна тянется ниткой. Его ломает, как лук тугой: это когда тело само себе стало арканом. Дотронься – и снова судорога, шепни – и опять бросит. Так оно при этой хвори и бывает: малейший свет, стук, слово – и сгибает, будто невидимый кнут хлещет. Нет у тела больше власти над собой: то оно камнем станет, то дугой, то вздрогнет, как лошадь под ударом.
С каждым часом у него пот градом, жар жжет словно угли под кожей, сердце бьёт как молот, лицо вытянулось в злую маску, глаза – острые, чужие. Губы растянуло в оскал, не то улыбка, не то звериная гримаса – точно чужой рот надели. Жевать нельзя, язык деревянный, слюна идёт непрерывно.
Ночью его скрутило особенно. Сперва тихий свист из горла, потом рывок – и весь стал струной. Рёбра не ходят, грудь не поднимается, как если б невидимая ладонь держала. Ещё миг – и синева под скулой, ногти белые. Тур понимает: не воздуха не хватает – горло заперло, а грудь зажало, и дышать негде. Так эта хворь и губит: то горло схватит, то грудь, то живот камнем, и человеку нечем вдохнуть, и он мелеет, как свеча на сквозняке.
К утру немного отпустило – но только чтобы снова навалиться. Корчь все чаще, короче, злее. Пот ручьём, сердце срывается в топот, жар, холод, жар. Старики шепчут: дурная сила. А в правде – хворь из раны пролезла в самое нутро и там оборвала вожжи. Вот и мчится тело без управы: то гнётся, то ломается, верно конь, что сорвался с рук.
День третий. Игнат уже не узнаёт. Свет ему злой, шёпот злой, тишина тоже злая. Дотронься – и ломает. Даже когда не ломает – стонет, через зубы свистит. Рот не раскрывается больше пальца, вода не идёт, язык сухой, потрескался. Слюна, наоборот, льётся, захлёбывается, кашляет, опять судорога, опять дуга. Тур сидит рядом, молчит, ладонь держит у груди – считает, как идёт сердце. И вдруг слышит, как будто его нет. Пауза. И снова бьёт – быстро, рвано. Потом опять провал. Это когда у этой хвори не только мышцы сводит, но и нутро шалит: пот, жар, сердце вспугнули, бегает, как заяц, то скачет, то падает.
Вечером его согнуло так, что спина скрипнула. Зубы защёлкнулись, как капкан. Губы побелели, глаза выкатились, взгляд пустой, в потолок. Ни вдоха, ни выдоха. Ноги как струны, пальцы в корче, пятки тонут в соломе. Вся изба замерла. И в этой тишине слышно, как печь дышит и как у Тура скрипит зуб. Игнат дернулся ещё раз – коротко, как щука хвостом, и лёг. Совсем.
Женщины завыли, засуетились, кто-то метнулся за свечой. А Тур сидел и глядел, как на железо. Степан вошёл, кивнул раз. Сказал негромко, верно итог подытожил:
– Отмучился.
И никто не спорил. Знали только: от такой раны, где мёртвое мясо и грязь, часто бывает эта злая теснота тела, что сводит дугой, а умирают чаще всего от того, что горло и грудь хватает, и дыхания не остаётся. И чем раньше её ведёт после раны, тем яростнее бьёт и скорее косит.
Похоронили Игната быстро, даже с облегчением: тяжело уж больно он уходил, и каждый в деревне за эти дни вымотался его стонами, судорогами и тем страшным оскалом, в котором не осталось человека. Когда заколотили крышку, все вздохнули, перекрестились – и больше думать не хотели. Земля промёрзла до камня, долбили её ломами, кувалдами, руки деревенские ледели, у многих кожа с ладоней сошла – но в конце-то концов всё сделали, завалили яму, прикрыли еловыми ветками. Ночь спустилась тяжёлым снежным саваном, и будто всё успокоилось.
Но утром…
Кто первым увидел – не помнили. Говорили: то ли бабы, то ли мальчишки забежали наперегонки. Но все помнили крик, тонкий, рвущий, и потом – толпа.
Могила Игната разодрана. Не разрыта лопатой, не раскопана зверем – а разодрана, словно земля сама выворачивалась изнутри. Ветки разметало, земля в стороны, дерн на клочьях.
И в середине – тело.
То, что вчера ещё было Игнатом, теперь было месивом. Рёбра раздвинуты, выломаны наружу, торчат острыми дугами. Они расходились, как птичьи крылья, – чёрные, лоснящиеся кровью. Из раскрытой спины вытянуты лёгкие: они обмякли, распластались по снегу, слиплись, словно мокрые тряпицы, облепленные кровью. Снег вокруг пропитался, заиндевел, почернел.
Но страшнее всего – пустота в груди.
Там, где сердце, зияла чёрная дыра. Ни органа, ни клочка, ни жилы – словно вырвали начисто. Люди шептали: «Сожрано…» – и крестились, но пальцы на лбу дрожали.
Лицо Игната застыло в гримасе: рот распахнут, глаза выкатились, и казалось – он орёт до сих пор, только звука не слышно. На снегу отпечатались ногти – до мяса обломанные, как если бы он сам пытался вырваться из собственной кожи.
Бабы завыли, ребятишек уводили, мужики стояли чёрные, молчаливые, зубами скрипели, кто-то в сердцах плюнул на снег, но ближе не подходил. В груди каждого – не жалость, а холод: не от мороза, а от того ужаса, что ни словами, ни разумом не оправдать.
Степан, староста, хмуро спросил:
– Что?
Тур смотрел долго, не мигая. Плечи его ходили тяжело от дыхания, глаза щурились от холода и страха, что он прятал.
– Медведь, – сказал он, тихо, глухо.
И все переглянулись: слово не грело, не спасало, но другого сказать никто не мог. Каждый понимал нутром – не медведь то. Да только признаться было страшнее всего.
Глава 10. В избе у старосты
Изба у старосты – крепкая, широкая. В углу иконы, печь потрескивает. На столе хлеб, квас, брага. Мужики сидят втроём: сам староста, кузнец Гаврила, да Тур. Сели чинно, как на сходке, но в каждом – тревога.
Степан поднял кружку:
– За Игната, покой, Господи, душу. – И все трое перекрестились, хлебнули.
Он первым и заговорил, глухо:
– Три смерти было. Четвёртая – поджидает. Я эту деревню, как самого себя, знаю. каждая изба мне, как родной палец, каждый двор, как борозда на ладони. Нутром чую: еще будет.
Помолчал, ближе наклонился к столу:
– Три смерти за зиму… Авдей – сам ли? Нынче скажут: пьяный был, на вилы напоролся. А ведь и не скажешь точно… Ночь, мороз, вила острые, да и сам он шатался. А я скажу … – и взглядом повёл, – и не такие пьяные по улицам шли, а не напарывались.
Гаврила, кузнец, бороду потрогал, слова взвешивает, точно железо на весах:
– Авдей… с пьяного дело простое. Но то, что его на вилах нашли – так ли наострено судьбой было? Не всякий нож сам себя точит.
Степан гулко продолжил:
– Митрошка – на Карачун. Сам день тёмный, худой, знак худой. А уж как он бормотал, то ли во сне, то ли в бреду… слова эти, что и повторять не хочется.
Гаврила бороду почесал, нахмурился, голос у него тяжёлый:
– Сказывали старики, что коли дитя на Карачун умирает – не он один уходит. Мост кладёт. За ним кто-то идёт, а кто – неизвестно.
– Известно, – буркнул Староста. – Вчера схоронили. Неизвестно – последний ли.
Тур молчал, глядел в кружку. Степан перевёл на него глаза.
– А ведьма? Осенью пропала. Люди шепчут. Не видать её. Ты, Тур, не ходишь ли?
Тур поднял голову, глаза острые, как нож:
– С осени нет её. Пропала. – Сказал резко, а в груди как когтем провели.
Гаврила заметил, но промолчал. Степан же ещё пристальней всмотрелся.
– Игнат… тоже, выходит, сам в капкан влез? С похмелья. А рядом кто был? Ты, Тур. – Сказал тяжко.
Тур отодвинул кружку, голос его глухой, злой:
– Зверя я ловлю, не людей. Не моё это – подлостью.
Степан кивнул, сына знал.
Гаврила добавил:
– И то правда. Тур охотник. Лес его знает, зверь его чует. Но всё ж, странно оно выходит: трое – и все не просто.
Снова выпили, помолчали. В избе дыхание скрипело, за окном завыл пёс.
– А могила Игната… – тут Гаврила ещё ниже заговорил, в пол глядя, – то ведь не зверь только. Слыхал я: есть такие, что могилы меняют. Сердце вынут – и душа не к Богу идёт, а в ночи бродит. Шатуном ходит. Без имени. Имени нет – и покоя нет.
Степан сжал кулак.
– Медведь. Шатун. Само то плохо: бес в зверя вошел, к деревне подступил. Но чтоб… сердце сожрал – тут не по-звериному.
Гаврила бороду погладил, вздохнул, перекрестился – не всерьёз, так, на всякий случай, и заговорил:
– Не к добру это, Степан. Слыхал я от стариков, покуда ещё в живых были, что бывало так: мёртвого положат в землю, а земля его не держит. Не принимает. Он и лежит – да не лежит. Сначала тихо, потом глухо стонет, точно корень под землёю ломается. А после и вовсе – вылезет. Не сам – кто-то выманит. Сердце вынут, душу выведут. Тогда и ходит он, шатун без имени, ни живой, ни мёртвый, и к дому тянется, где жил, к людям своим. Ночами в окошки глядит.
Гаврила пригубил, подождал, пока скрипнет в углу, и продолжил, тише, почти шепотом:
– А про сердца… и вовсе страшное молвили. Будто нечистая сила не плотью питается, не кровью даже, а сердцем. Потому как сердце – это и есть имя. Нет сердца – нет имени. Без имени шатун и остаётся, век по веку бродит. Днём его не видно, а ночью сидит он у межи, в канаве, на пне гнилостном. Сидит и скалится, верно ждёт, когда кто мимо пройдёт. И если узнает его, если назовёт по имени – всё, пропал тот человек, сам за ним вслед пойдёт.
Степан нахмурился, хотел что-то сказать, но Гаврила рукой махнул:
– Постой, дослушай. Ещё бабка мне сказывала: случалось, что душами менялись. Один мёртвый – другой живой. Тело в земле, а душа живого туда перескочит, вместо мёртвого. Вот и ходит живой, а глаза у него – как пустая яма, без огня. Это зовётся «смена могилы». Старики таких боялись пуще всего: от шатуна ещё убежать можно, а если смена – то и сам не заметишь, как в мёртвом окажешься.
Гаврила замолчал, перекрестился опять, но торопливо, словно боялся вспоминать лишнее.
– Так что, Степан, – заключил он, – медведь ли то был? Может, и медведь. А может – и то самое, что без имени, что чужие могилы любит. А сердце… сердце – не медведь берёт. Сердце всегда к кому-то идёт.
Тишина легла тяжёлым сукном. За стеной ветер выл так, будто и впрямь кто-то сидел под окном, слушал, скалился. Тур поднял голову и посмотрел прямо:
– В лес пойду. Посмотреть надо.
Степан руку положил на стол, крепко, как в землю вжал:
– Не пущу. Сын ты мне, один.
Тур не ответил. Только плечи чуть двинулись – мол, всё равно пойдёт.
Степан повторил, ниже, но тяжелее:
– Говорю тебе: не пущу. Не та охота. Смерть рядом ходит.
Тур глядел спокойно, глаза узкие, без злости:
– Некому больше.
Третий раз отец сказал, медленно, уже не голосом, а тяжестью, как крест кладут:
– Сгинешь там, знаю.
Тур от этого слова не отшатнулся. Словно услышал, но точно и ждал. В глазах у него – не упрямство даже, а тоска и голод, что только лесом утолить можно. И видно стало: не то чтоб хочет туда – а иначе жить ему всё равно некуда.
Молчание нависло. Пламя лампады дрогнуло, в углу тень качнулась, прислушиваясь. Гаврила долго молчал, глядел то на Тура, то на Степана. Словами не спешил, словно из глубины их вытаскивал. Наконец заговорил:
– Пусти его. Зверь он сам. В лесу – своё возьмёт.
Помолчал, ещё раз бороду провёл ладонью, добавил глухо:
– Всё одно не удержишь. Лес его уже держит.
Глава 11. Утро
Утро вышло хрустким, как свежий лед на корыте. Небо низко, бело, будто мукой припорошило мир до тишины. В избе стынет лучина, пар изо рта клубится, как дымок из щели. Тур встал – и всё в нём встало: решенье, дорога, лес.
Сначала – молча к лавке с железом. Рогатина лежит, как жердь, но не жердь: древко еловое, гладкое от рук, тяжёлое, надёжное; на конце – широкая железная лопасть, не копьё – ластов хвост, чтоб не прошибить сверх меры и чтоб зверю по древку не взобраться, не достать грудь. Держит Тур её так, как держат слово: обеими, мерит локтём, примеряется – куда вес уходит, куда ладонь сядет, где плечо встанет. Рогатина – старое, древнее оружье; так ходили на зверя ещё деды, так и теперь пойдут, когда ружью веры мало, а дело – в упоре, в одной секунде, где или ты, или он
Рядом – самопал. Не барское чудо, не диковина городская: простое длинное ружьё с кремнём, опалённым курком, с полочкой под порох. Тур ладонью ведёт по ложу, проверяет – кремень сидит, полка суха, затравка в кожаном кисете не отсырела. Для медведя ружьё – что первый гул, первый укол, а держать стой – всё равно рогатина. Грохнул – и стой, не дрогни: зверь, если не пал, рванёт в грудь, тогда и решится.
Шнурки-ремни, нож – не тесак, охотничий, узкий, как язык, острый до звона; топорик короткий – не колун, но чтоб ветку срезать, лёд подрубить, буртик у берлоги надорвать. Кисет с дробью и порохом, холщовые пыжи, кремни запасные, фитиль – на всякий: не доверяй одному огню.
Потом – лыжи. Не те, что по ярмарке для красоты: лесные, тяжёлые, как полено, широченные, с камусом снизу – лосиным, конским, чтобы назад не отдавало, чтобы снег брал тихо, мягко, без визга. На такие не катятся – на них ходят, как на лапах звериных: шаг глухой, верный, без суеты. Тур пальцем проводит по камусу – ворс ровный, не ободрался, ремни целы.
Свитка грубая, под нею рубаха сухая; онучи потуже, рукавицы бараньи – но пальцы всё одно стынут: охота согреет. Шапка низко, чтоб не резало уши. За пояс – рожок сосновый, собачий зов. Нет у него нынче лаек – не взял, не к лайной охоте идёт, не гнать ему зверя людской толпой; но рожок – на всякий, вдруг поманит деревенского пса, вдруг судьба свистнет.
Пока Тур собирает, тягучий сон из ночи, как дым из-под пола, лезет в голову. То дёрнется – и поползёт в глаза чернота, тёплая, с прелым духом, с мягкою тягой внутрь. Вспыхнет – рот земли, влажный, мясной; шевельнётся – корни-жилы, мох-кожа; хлюпнет – кровь-сыроежка на губах. И голос без рта, нутряной, женский ли, звериный ли – не поймёшь: «Внутрь…». Тур шевельнёт плечом, чтоб спало. Не время снам.
За спиной шуршит Дуня. Не плачет, не орёт – дышит часто, как после бега, но тихо. Пахнет домом – молоком тёплым, луком вчерашним, парной баней, и всё это хорошо бы, да нутро у Тура сжимается, как кость в тисках. В глазах у неё – мутный утренний страх, как вода в лунке: и видно дно, и страшно глядеть. Она шепчет несвязно – не удержать, не уговорить, хотя б слово хорошее в дорогу, хотя б крышку печи трижды стукнуть, чтоб беду отвадить. Её руки тянутся поправить ему пояс, шапку, – Тур отстраняется мягко, без злости: не надо.
– Рано, – только и молвит он. – Надо.
Она кивает – и всё равно не понимает. Женщинам такая охота всегда тихий мор: уходишь – будто в землю.
В сенях темно, иней по гвоздю серебрится. Тур ставит лыжи, ремни натягивает, проверяет, как нога походит. Приседает, подбирает рогатину: конец древка в пол, лезвие вниз, к ноге – так держат, если зверь в лоб. Движения у Тура короткие, экономные, звериные: всё лишнее – во вред. Где берлогу возьмёшь – под сомнением, где шатуна встретишь – совсем худо. Шатун – это не спящий хозяин леса, это бродячая беда, голодная, злая, глаза провалились, мордой трясёт от пустоты. Такого не сманишь, не уймёшь, назад не отступит – пойдёт. Идти на шатуна – как шагать на дрожь в земле.
Тур ещё раз тоску выдохнул и стал собирать себя, точно уздой: ружьё – за плечо, рогатина – в руке, нож с топориком – к поясу, лыжи – в снег. На пороге притормозил – вслушался. Дворы молчат; только где-то дальний пёс переспросил ночь. Ветром тянет еловым дымком, и где-то в глубине, словно на дне колодца, шевельнулось: «Внутрь…». Он зубами поймал дыхание – сбил.
Митрошкин голосок – вдруг рядом, словно мальчишка живой в сенях шмыгнул: «Не ходи… там тесно… там зубы…». Тур, не оглянувшись, втянул холод поглубже, чтоб спал голос. Митрошка своё уже сказал – ночью, на Карачун. Теперь иное время.
Он выходит. Снег скрипит низко, толстым голосом. Первые шаги на лыжах – тяжко, потому что всё хозяйство на плечах, каждое железо звенит памятью: у рогатины – старой кровью, у топорика – смолой, у ножа – холодом. Тур идёт вдоль сарая, минует омшаник, вдоль плетня – к опушке, туда, где тропа его, чёрная, как жила в снегу. На каждом шаге проверка: стопа держит, лыжа слушается, рогатина не задевает колено, ружье не лупит по лопатке. Всё на месте – значит, жив.
Дуня стоит у порога, проследила до изгороди, потом пропала – в избу ушла, да не ушла: стоит там же, спиной к теплу, лицом к морозу. Она шепчет под нос, путано, все бабьи заговоры в кучу: про соль, что на огонь, про нож, что в пороге, про платок, что на икону. И всё это, как вода в решете. Но у Дуни так: не сделать – будет хуже.
Тур проходит первые сосны и уходит в полутень леса. Лес зимний – глухой, как колокол. На лыжах шаг враздумье: не торопись, не вязни; пятку мягче, носок – живой. В тальнике следы – ночные, свежие, из-под насту тёмный пух вышел: лисица ли призадумалась, заяц ли перевалил, а вон – тяжёлые, как кулак, размытые, – медвежьи? Нет, шире надо, да и шаг другой. Медведя след зимой – редкая вещь; у шатуна – тороплив, сбивчив, как у пьяного, то к стогу, то к свалке, то к мёртвой скотине; у спящего – нет следа вовсе, только берлога дышит, да инеем «окошко» затянет, где дых-выдох звериный на снегу круглеет.
Тур держит ухо настороже. Если берлогу брать – одно: подкрасться снизу, в полветра, срубить мешающее, грохнуть в ухо – и стой с рогатиной; если выгнал – другое: на лыжах вдогон, не давать уйти, ни собакой, ни криком, дыхание беречь, чтоб не качнуло руки. Так учили, так промышляли: один гудит в ствол, другой с рогатиной держит на упор; а коли зверь бросится – левым плечом подать, древко у ноги, жало вниз, чтобы принялся, чтобы сам себя насадил, чтобы дальше не пошёл.
Сон опять накатывает, как туман меж стволов. В глаз вздувается чёрный круг – не провал, не яма: лоно. Мох – тёплый, влажный, пахнет молоком с кислинкой гнили. «Обратно», – шепчет безголосый. Тур резко меняет ход – влево, в наст, как будто это – и есть ответ сну. Лыжа скребёт корку, рогатина поскрипывает в рукавице – и сон спадает.
Он идёт «на чуе»: где ветер, где ложок, где промоина, где берлоги любят – в старом ветровале, под корневищем бурелома, в ельнике глухом, где снег как пух. В такие места зверь ложится, чтоб его ни снег не давил, ни вода не подмыла, ни глаза людские не достали. А шатуна искать – по чужой беде: к падали он тянется, к скотской яме, к навозной куче возле двора, к мёду, что в улье забыт, к овсяному стогу; и всегда – по запаху дыма, где человеческое живёт.
Пока Тур идёт, деревня не умолкает в нём: Дунин шёпот, Прокошин тоненький страх, Степаново «не пущу» – трижды сказанное, как три скрепа на крышке. Он их несёт, как железо, но железо это не звенит – греет спину. И ещё – тяжкий, в горло упирающийся знак с утра: полынь – мгновенно, тонко, словно кто-то прошёл рядом и не коснулся, а воздух после него стал горче.
Он останавливается у елового увала. Снизу – тишина; сверху – ни птичьего «цвир», ни скрипа сучка. Снег тут дышит иначе – воронкой. Тур присел, ладонью снег ощутил – под пальцем твердее, у кромки мягче. В центре – крошечное «светло» инеевое, точно стекло запотело и снова смерзлось: дыхание. Берлога. Не свежая ли? Но кругловато «окошко», не разодрано, не смято – значит, зверь внутри, не шатун; эти бродягой шляются, не лежат. А на шатуна и идёт.
Тур не рубит, не шумит. Обходит полумесяцем, чтоб ветер в спину не принёс человеческого. Ружьё – чуть вперёд, рогатина – вниз, древко к бедру. Два шага, три. Снег раз – и скрипнул. И в ту же секунду из сна – не голос, а тянущее: «Внутрь». Тур стискивает зубы, будто пробку в сосуд – чтоб не пролилось.
Он не берёт эту нору. Не время. Если хозяин – выйдет не сейчас, и не то ищем. Шатун где-то между лесом и деревней – середняк, ни свой, ни чужой: там его дорога. И Тур разворачивается – к логам, к старым пасекам, к овсу, к заста́вам у села. Там смотреть.
Лыжи словно сами знают тропу. На пригорке – примятая кромка снега, раздол: следы – не чёткие, широкая пятка, шаг сбивчивый, пухом присыпан; возле валежины ковырял – кору сгрыз; дальше – к речному обрыву спуск, там лёд потемнее – шёл. И у стога – рвань соломы, брыжики чёрные: копал, жрал. Вот это – его. Шатуна дых.
Тур останавливается, прислушивается к тихому миру. Мир дышит – и не дышит. Звук издалека – как шкурой об ствол шевельнули. Елька тонко звякнула льдинками. Он протягивает ладонь – ветер сух, еле-еле, от деревни – дым, солома, и где-то глубже, как горькая нитка в мёде, – полынь.
Дунин страх и Митрошкин голос отступают, как вода за плотиной. Осталось ровно то, что нужно: шаг, пауза, дых. Ружьё – к плечу, но не в глаз; рогатина – в руке, жало вниз. Идти – как войти в тень: ни слова, ни щепки, ни вздоха. А если поднимется – не пятиться, левым плечом подать, древко – в землю, жало – в грудь. Так учили. Так оно и будет.
Тур двигается дальше, мерно, как цеп для обмолота. Лес принимает его без звука. И только где-то с самого дна сна шевелится тёплая чёрная воронка – зовёт, обещает: «Назад, внутрь, до-начала». Он ей отвечает походкой. Ему – не в лоно. Ему – в упор.
Глава 12. В избе
Утро в избе Дуни началось с дрожи: свет тонкий, едва пробивается через заиндевевшее окно. Воздух плотный, холодный, пахнет дымом, пряностью, чем-то горьким. Как Тур ушел начала: подмётки, помёты, воду в котёл потащила, лёд раскидала, уголь подложила, чтобы печь подпухла. Дрова рубила на мелкие клепки, лучину точила, в полати сметала стружки, колотила ледышки с окон, вытаскивала зверобой из угла – как обычно зимой женщины делали, чтобы нечисть не ворвалась – ветки колючие, шиповник, крапива – ставили в углах, под потолком, над дверью, чтобы скользко было нечистой силе. Но рука её дрожала – миски падали, тряпки рвались, поленья выскальзывали. Всё казалось мягким, скользким, словно руки её – ледяной мох. В одном моменте сыпнула уголь – углы избы окропило пылью.
Стук в дверь. Она встрепенулась, сердце подскочило, полотенце с рук выпало. По плечу прошёл холодок. Дверь скрипнула, и внутрь вошла Евфимья – крестная её. Седовласая, с глазами тихими, без спешки. Она не сказала ни слова, просто вошла и начала помогать: помочи поводить, дров подкинуть, миски поднять – молча. Дуня несёт посуду, ложки, плечо ноет от ранней работы. Но когда вечер подошёл, и всё было убрано, пол чист, печь ровно дышит – они сели за стол, и тогда Евфимья заговорила.
В голосе её – не сказка, а полусон:
– Слушай. Я расскажу одну старую вещь, что шепчут лишь по ночам…
Евфимья долго молчала. Пламя лучины кривилось, ползло по стене, и только тогда она заговорила – не громко, но так, что у Дуни волосы у корня зашевелились.
– Слушай, крестница… есть давняя повесть. Не нынче она родилась и не в наших краях только шепчется. Где есть земля и могила, там и она.
Жили-были мёртвые, которых земля не приняла. Не простые покойники, что под крестом спят, а такие, что с кровью уходили, с криком, с клятвой. Их называют— заложные: не люди, не звери, а то, что меж.
Говорят, такой мёртвый в первый год по ночам выходит. Сначала тихо: тень его в избе мелькнёт, дыхом ледяным по спине пройдёт. Потом смелее – в окошко глядит, в закоулках стоит, пока не позовёшь его по имени. А кто позовёт – тому самому и лечь придётся, в холодное место. Потому как душа без сердца ходить не может. А сердце – они вырывают, выедают, чтобы себе имя обратно взять.
Есть иное слово: «менялы». Они не своё тело ищут, а чужое. Подойдут к могиле, выворотят её снизу – и переменят: покойный живым станет, а живой вместо него вниз уйдёт. Глянешь в глаза такому – а там пусто, как в чёрном озере: отражение есть, а дна нет.
В старых сказах северных было: один себя копьём пронзил и повис девять ночей на дереве, чтоб знание добыть. Так и эти – не ради мудрости висят, а ради плоть-чужой. Виснут под крышами, в углах, под корнями. У морских рассказывали: мёртвые из моря выходят, черней ночи, обросшие водяной травой, и идут за сердцами людей. Они сердце едят, чтоб снова стать. А у нас сказывали проще: «сердце не сохранишь – душа не твоя».
Говорили ещё, иногда сам медведь – не зверь, а шатун без имени, что солнце сожрёт. Могилу разорвёт, кости выложит врозь, крыльями-плечами распнет, а сердце – к огню, в пасть. И будет ходить меж дворов, пока новое имя не возьмёт, чужое.
Потому всякая баба в старину знала: на грудень, к Карачуну, к солнцевороту – держи в избе крест, огонь, соль, траву. Не держишь – не твоя душа станет. Так и сказывали.
Евфимья перекрестилась, но рука её дрогнула. Говорила она глухо, пророчески:
– Помни, Дуня. Не всякая смерть – конец. Бывает, что это только начало. Иной мёртвый спит, а иной – ждёт. И когда выйдет – уже не вернёшь. И если он к тебе придёт, не зовом зови, не взглядом смотри. Молчи. Молись. И держи огонь.
Сначала Дуня не поняла – просто собаки за околицей перестали лаять. Только что тявкали, перекликались – и вдруг оборвалось, как рукой сжали. Она подняла голову, насторожилась, прислушалась. Евфимья у печи, дрова поправляет, а Дуня ловит ухом: нет. Нет звука.
А потом поняла: идёт. Сначала далеко-далеко, будто из самого леса, из тёмной стены елей, пошла тишина. Идёт она низко, как холодный дым по земле стелется, по деревне плывёт.
Собаки первыми умолкли: дальний лай сжал, оборвал, потом ближе – как если бы им пасти заткнули. А потом пошло дальше. В хлеву овца протянула жалобное, и тут же захлебнулась – не продолжила. Корова в стойле дернулась, повела копытом, фыркнула – и стихла. Куры на жердях затоптались, крыльями хлопнули – и замерли.
И тишина шла, слой за слоем, из конца деревни к середине, от середины – к избе Дуни. Шла и становилась звонче. Не пустота, а звон. Такую тишину человек слышит ушами, как звон в голове: когда все звуки есть, но спрятаны, сжаты в один ком, готовый треснуть.
Дуня села, руки прижала к коленям, сердце в груди трепещет, как птичка в силке. Евфимья голову подняла, слушает – молчит, глаза узкие, губы сжаты.
Чем ближе тишина, тем сильнее холод. Воздух в избе стал густой, сырой, точно стены криницей обросли. Из щелей тянуло ледяным: пахнуло землёй из могилы.
И тут на Дуню накатывает – не мыслью, не разумом, а нутром. Животным нутром. Как овца чует волка. Как птица под ястребом. Пот прошиб её сразу, кислый, едкий, будто тело решило само себя сбросить, выбросить. Волосы на затылке встали, колени дрожат, руки вцепились в скамью – и всё равно силы нет.
Страх. Не простой – не за мужа, не за брата. А такой, что тянет её в пол, к земле, чтоб закопаться, чтоб исчезнуть. Страх, где нет слов – только смерть рядом. Где-то там, в темноте, её видят, знают, тянутся.
И ужас этот не только звериный. Он ещё и бабий. Она знает – грех у неё смертный, не отмоленный. Душа её метит. Она сама – как зарубка, которую тьма нашла. И Дуня понимает: не просто страх. Это возмездие идёт. И не миновать.
Дыхание у неё сбивается, грудь давит, глаза заслезились, всё тело дрожит, воняет своим же потом. Как зверь, что видит смерть и знает – не уйдёт.
Она шепчет, едва слышно:
– За мной… идёт. За мной… грех мой…
И это шёпот не человеческий уже, а животный, сквозь зубы, точно сама смерть в горле её гниёт.
Евфимья резко поднимается, выхватывает лучину, крестит воздух, крошит соль по углам. Говорит низко, властно, как не крестная уже, а сама ведунья:
– Молись. Держи пламя. Не смотри в окно.
Огонь в печи вспыхнул, искры вырвались, осветили стены. Но за стенами – та же тишина, и она всё ближе. Уже не за деревней. Уже под их окном.
Евфимья встала, кажется, выше стала, тень её длинная легла по стене, заслонила угол. Взяла горсть соли из полотняного мешочка, крестом посыпала под порогом, у окна, у печи. Соль трещала, будто живая, словно в ней искры были.
Затем достала из-за печи связку трав – березу, зверобой, сухую крапиву. Сунула в жар, дым густой пошёл, горький, едкий, так что глаза защипало. Дым лёг по углам, шевельнулся, как если бы отгонял что-то невидимое.
И голос у неё стал другой: не тихий женский, а глухой, древний, с придыхом – точно сама изба говорила её устами:
– Чужая сила, уйди. Где пришла – туда вернись. В воду, в землю, в корень. Веткой колючей пронзись, солью сожгись, огнём опалиcь.
Она взяла головню из печи, огонь капал, и кругом обвела стены – крест над каждой щелью, над каждым углом. В угол за печкой ткнула, где тень тянулась длиннее всего. Там что-то словно зашипело – не звук, а ощущение, как если бы змея в сердце прошла.
Дуня вцепилась в подол, вся мокрая от пота, дышит рвано, в горле ком, как от крика, что не выходит.
А тишина за стенами всё давила, всё звенела. И казалось, что нет больше мира – ни деревни, ни леса, ни снега. Всё вытеснило одно: эта глухая, живая пустота, шаг за шагом приходящая к ним.
И вдруг собака где-то близко – взвыла, так страшно, так жалобно, будто живьём её резали. И сразу оборвалась.
В избе стало ещё темнее, и даже огонь в печи закачался, пламя тонким языком вытянулось, как будто его втягивало куда-то наружу.
Евфимья крикнула громко, так что Дуня вздрогнула:
– Не смотри в окно!
И тут Дуне показалось: за окном мелькнуло. Не лицо, не тень, а верно сама темнота прижалась, глянула.
Евфимья встала посреди избы, обвела огнём воздух крестом, шептала быстро, почти шипела, спорила с кем-то невидимым:
– Огнём загорожу, солью засыплю, словом отведу. Не войди, не коснись, не гляди!
Дым травы вязал стены, делал избу тесной, как глиняный горшок. А за стенами – всё глуше. Ни коня, ни собаки, ни крика детского. Даже ветер, что весь день гонял снег по крыше, теперь замолк. Лишь тишина – и она уже дышала. Звенела в ушах, ломала грудь.
Дуня вжалась в лавку, колени под себя, руки дрожат. В груди тяжесть, как будто сердце в кулак взяли. Пот на висках холодный, едкий, с кислинкой – точно тело её само знало: смерти ждёт.
И тогда – шаги. Нет, не шаги даже, а треск снега под тяжестью. Сначала у дальних изб, потом ближе, ближе, пока не стало ясно: идёт. Не видно, кто там. Но каждое движение чувствуешь, как у зверя перед логовом: ещё не показалось, а нутро уже орёт – здесь!
Окно дрогнуло. Дуне почудилось – кто-то провёл по нему рукой изнутри, и иней под пальцами соскользнул. В горле у неё вырвался звук – то ли стон, то ли визг, но она прикусила губу до крови, чтоб не закричать.
Евфимья грымнула:
– Сиди! Молчи! – и снова бросила в огонь горсть соли. Пламя взметнулось, сухо треснуло, как будто кость сломалась.
За стеной вроде шевельнулось. Как если бы что-то огромное наклонилось к избушке, скребануло по брёвнам. Не когтем, не рукой – тьмой.
Дуня дышала коротко, с присвистом, грудь сдавило так, что она едва обмерла. И вдруг поняла – ужас этот не только в том, что что-то пришло. А в том, что оно ищет её. Её! Не мужа, не крестную, не кого другого – её грех тянет.
– За мной оно… – прохрипела она, дрожа, и губы её побелели.
Евфимья встала над ней, подняла головню, крестом обвела воздух. Глаза её блестели так, что Дуня не узнала родную женщину – это была не крестная, а сама древняя баба, из тех, что жили до креста, до молитвы.
– Молись! – крикнула она, и кинула головню в печь.
Огонь ухнул, как зверь. Пламя вспыхнуло, так что изба вся засветилась красным. И в тот миг тишина отступила. Не исчезла – нет. Просто попятилась, отвалилась в темноту.
А Дуня сидела вся мокрая, воняла кислым потом, как забитая скотина, и знала: это ещё не конец. Оно уйдёт – и вернётся. За ней.
Глава 13. Ожидание
После ночи Дуня слонялась по избе, как неприкаянная. Всё делалось – да всё валилось. Воду принесёт – половина плеснётся, ухват возьмёт – выронит, хлеб ломит – крошки в руках остаются. В глазах – пусто, в сердце – тянет, но не к мужу, а к беде.
Сначала думала: сидеть. Потом – не вынесла. Накинула свитку, пошла к Степану.
На улице воздух был тяжёлый, как мокрая шерсть. Камень дышал низко, из-под земли: вдохнет и замрёт. Дорога под ногой вязла, мокрый снег лип к чирикам. Избы стояли притихшие.
У Степана дверь скрипнула, когда она дотронулась. Он сам вышел навстречу. Смотрел молча. Лицо серое, как небо. Губа прикушена. Взгляд по Дуне прошёл и уперся ей за плечо – туда, где лес. Обошёл ладонью косяк, будто гладил больное место.
– Он ушёл с рассветом, – сказала Дуня. Голос чужой. – Не вернулся.
Степан кивнул. Не удивился. Видно, с той же думой сидел. Провёл её в избу. Там пахло хлебом и старой смолой. На столе – стакан с тёплой водой, ружьё у ног, снятое с гвоздя. У окна – Аксинья, мать Тура, в платке, бледная. Губы шевелятся беззвучно. Пальцы вцепились в край стола.
– Погоди, – сказал староста негромко. – Погоди.
Они и ждали. Молчали, потому что каждое слово могло сдвинуть равновесие. Огонёк свечи то вытягивался, то гнулся, бросая на стены тени длинные, живые. Казалось, вот-вот одна из них отделится и пойдёт по избе. Не Староста Степан – старик то поднимался, то садился, хватал кочергу, ставил обратно. Руки его жили сами по себе – пальцы всё искали, что бы переложить, чем бы занять пустоту. В печи шептали угли. С потолка капнула вода со связки лука: тюк. В оглобле за стеной что-то щёлкнуло. Ветер тронул избу так, точно она висела на нитке.
Дуня прислушивалась к миру, как к больному телу. К деревне дотягивалось лесное дыхание. Из-за Камня шёл медленный, низкий гул, как если бы огромный зверь переворачивался во сне. Собаки разом затаились. Птица под крышей взбила крылом, цыкнула и смолкла. Вдруг щекой почувствовала, не ухом: прошел по улице чужой холод, узкий, как лезвие. От него внутри всё сжалось, как прядь в кулаке.
– Беда, – сказала Аксинья, не поднимая глаз. – Сердце не на месте.
Степан косо глянул на неё. Плечи поднял и тут же опустил. Сел. Руки на стол и сжал так, что побелели костяшки.
– Шатун нынче недобрый, – сказал он в пустоту, оправдывая собственную тревогу. – Бывает, мерзлота его не берёт. Сычит, ходит, не спит. Чует человеческое.
Тишина в ответ. В печи уголь треснул, как сухая ветка. Дуня глотнула воздух. Вкус золы. Вдруг поняла: в её избе узвар тянул сладким дымком, а теперь во рту только горечь.
Время скользило, как жир по краю миски. То быстро, то совсем не движется. Степан вставал, подходил к двери, открывал на ладонь, слушал и снова закрывал. Дверь скрипела всякий раз тонко, на одном и том же звуке, как нитка, которая сейчас лопнет. Аксинья поднялась, погасила лишнюю лучину, потом снова зажгла – и так два раза, словно боялась, что света окажется либо мало, либо слишком.
Раз, далеко, чужая дверь бухнула, и Дуня вздрогнула всем телом. За окном прошуршало, как платье по сухому камышу. По стене прошёл, как паук, маленький холод. Даже лук на связке перестал капать.
– Пойду навстречу, – сказала Дуня.
Степан поднял ладонь. Не надо. И добавил уже тихо:
– Он сам дорогу знает.
Ждали дальше. Слова в горле стали тяжелыми, как камушки. Дышать – и то мешало.
Потом в сенях прямо из тишины что-то черкануло. Шаг. Второй. Дверь дрогнула. Скрипнула. Вошёл Тур.
Он был мокрый, будто шёл под дождём, хотя дождя не было. На плечах – серый налёт, как от инея, который успел стаять. Лицо не бледное – каменное. В глазах – тень, как от копоти. Он перешагнул порог, стоял и молчал. В избе все звуки, кажется, повисли на одном крючке.
– Где был, сын? – спросил Степан. Без привычной хрипоты.
Тур сел на лавку. Не сразу. Сначала ладонью провёл по колену, точно стирал что-то липкое.
– Видел странное, – сказал наконец. Голос низкий, потёртый. – След у берлоги. Не свежий и не старый. Бродяжий. Шатун ходил. Тропа рваная. Земля в комках, мох взбит, корни оголены, как жилы. Запах… не звериный один. Сладким тянет. Приторным. Плесенью. И… будто железом тоже.
Он замолчал. Смотрел мимо. Дуня слушала, не дыша.
– Он был, – продолжил Тур. – Это точно. Лежал. Потом встал. Шатун. А потом как бы издох. Или лёг. Но нет его. Точно не знаю.
Степан поднял голову. Взгляд остро резанул.
– Ты не знаешь? – спросил тихо.
– Не знаю, – повторил Тур. Ладонь сжал, костяшки побелели. – След есть и нет. Дыха нет. Тишина там, как в пустой бочке. Я стоял. Слушал. Не беру.
В избе похолодало, хотя печь дышала ровно. Аксинья перекрестилась почти незаметно. Дуня поймала себя на том, что ищет знакомый запах его кожи, пота, хлебного кваса – а вместо этого чувствует только воду, сырую и пустую. Как если бы лес спер у них нос.
– Всегда знал, – сказал Степан. Не упрёк. Удивление. В его голосе было то, от чего дерево трескается зимой: сухой холод.
Тур кивнул. Медленно. Чужая тень прошла по лицу.
– Всегда, – сказал он. – А нынче нет.
Они сидели трое. Пламя в печи повело боком, как от сквозняка, которого не было. Снаружи, видно в ответ, коротко звякнуло о косяк, хотя у двери никого не стояло. Собака во дворе вздохнула и потянулась, не решаясь тявкнуть. Камень вне избы тихо перевернулся и снова лёг.
– Шатун, – сказал Степан, верно точил в зубах это слово. – Или то, что вместо него.
Тур не ответил. Сел тише тени. В эту минуту его молчание было страшнее любой вести. Он, который «чует нутром», сидел и не знал. И эта неуверенность расползалась по избе тонкой трещиной, в которую тут же налился холод.
Дуня опустила глаза. Стиснула пальцы так, что ногти впились. Почувствовала: что-то пошло не так. Не в лесу. Внутри. В самом сердце того, кто всегда видел в темноте дальше других. И от этой мысли ей снова стало страшно. Как ночью, когда гаснет последняя лучина и ты понимаешь: дальше только тьма.
Степан посмотрел на неё и тихо сказал:
– Ступай, Дуня. Домой иди. Туру покой нужен, тебе – тепло. Не твоё это дело.
Она не перечила, только кивнула и вышла, не оглянувшись. На улице снег шёл тихо, ровно, как сон, а за спиной в избе остались двое – отец и сын.
Тур сидел, не шевелясь, как окаменел. Руки на коленях, глаза потемневшие. Пахло от него лесом, не холодным – глухим, сырым, земляным. Степан знал: таким в избу не ходят, не для бабы, не для печи. Дом его не примет, пока лес не выйдет.
– Ступай к Гавриле, – сказал он негромко. – Не домой тебе нынче. Паром тебя надо, огнём. Он знает как.
Тур поднял взгляд – коротко, с благодарностью, но без слов. Встал, закинул тулуп на плечо, шагнул за порог.
Глава 14. Баня
Кузница Гаврилы пряталась, как жерло в снегу. Там свет – тревожный, красный, шевелился на стене, как живой, да пар из приотворённой двери вился тонкими космами. Слышно: железо где-то дышит, камни в горне перекликаются.
Гаврила стоял у порога, народе случайно вышел воздухом подышать. Но не случай там был: тень от него лежала поперёк тропы, как перекладина. Глянул на Тура – не удивился, только бороду ладонью пригладил.
– Живой, – сказал негромко. – И нож твой погнут. Поправить надо.
Тур глянул вниз: и верно, кончик ножа – чуть вбок, словно сам лес его дёрнул. Он кивнул коротко:
– Поправь.
Слов мало – а оба поняли.
В кузне было тепло, не доброе тепло, а то, что с огнём смешано: острое, пахучее. Горн – как красный глаз, наковальня чёрная, блеском масляным полита; стенки сажей, и на каждом гвозде – тень. С потолка капала талая вода – снег на крыше поддался от жара. Гаврила сунул нож на камень, чуть поведал, приложил к наковальне, дыхнул, ударил – звякнуло гулко, как по кости. Потом положил железо в сторону, не доводя, и боком глянул на Тура:
– Ты бы… баньку. Пар тебе нужен. То, что из лесу с тобой пришло, паром спровадить. Не держи в себе.
Сказал как между делом, без нажима. А в словах – как камень в тесте. Тур плечом повёл; ему враз явилось: пар, полог, да тишина, где ни Дуниных глаз, ни бабьих шепотов.
– Пар с зари держу, – добавил Гаврила, точно вспоминая, —для дела. Теперь поддал – пар живой, чистый. Пойдём.
С «первой зари» – слово скользнуло, будто бы ничего; а Тур нутром понял: ждал его Гаврила. С утра держал пар, берег, подкидывал, прислушивался – не по-деревенски ли идёт зверолов, не тяжелеет ли снег под его шагом.
Они вышли. Баня стояла по-чёрному, старо: бревно закопчено, крыша низкая, дверь низкая – чтоб входящий поклонился. Тонкий дымок просачивался из-под конька; пахло полынью, можжевелом и смолой. По сугробу к порожку – короткая тропка, свежепротоптанная; следы – Гаврилины, широкие, и ещё чьи-то мелкие, старой ночью оставленные. Тишина вокруг – не пустая, а внимательная.
Гаврила у двери остановился, не стал креститься – в бане крестом не машут, – только шепнул, как водится:
– Хозяин-батюшка, пусти с миром. Дай пара не жаром, а добром.
Стукнул трижды костяшкой в притолоку – раз, другой, третий. Тур стоял рядом, молча, и чувствовал, как от этих трёх ударов словно что-то невидимое отпрянуло под полом, ушло в угол.
Внутри – темно, тепло, дымок по углам стелется; жара – тугая, не кусается, а держит. Каменка – пузатая, в глубине, камни тёмные, влажные, дышат. На полоке – веник дубовый, пересушенный, но вымоченный уж; рядом – берёзовый, с запахом прошлого лета, из кадки пар идёт. В углу лохань с водой, рядом ковши – железный и деревянный. На лавке – клок пакли, тёплый, подсохший, будто волос с бороды самого огня; щёлок в глиняной посуде; над косяком – ветка колючая, шиповник сухой – от чужого.