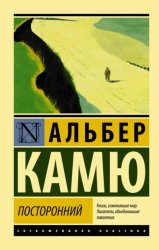Вы читаете книгу «Жизнь Дениса Кораблёва. Филфак и вокруг: автобиороман с пояснениями» онлайн
Художник Андрей Бондаренко.
Фото автора на переплете Дмитрий Галантерник.
Фото на форзаце – В. Савельев / РИА Новости, на нахзаце – В. Вяткин / РИА Новости.
© Драгунский Д. В.
© Бондаренко А. Л., художественное оформление.
© ООО “Издательство АСТ”.
* * *
1. Начало
В 1973 году я окончил филфак МГУ. Было место в аспирантуре – даже два места, для меня и для моего однокурсника Миши Бибикова – в Институте истории СССР, в отделе, где занимались античными и византийскими проблемами. Заведующий этим отделом профессор Владимир Терентьевич Пашуто нас и позвал.
Там была необычная ситуация. Историк Антоний Флоровский – брат знаменитого богослова Георгия Флоровского – завещал деньги для стипендий молодым российским ученым. Этот, выражаясь по-нынешнему, грант попал в Институт истории СССР. Но сам Флоровский жил и умер в Европе – выражаясь по-тогдашнему, был белоэмигрантом. Грант от эмигранта, такое везение.
Вдруг бабах! – родной факультет мне не подписывает характеристику. Что такое характеристика в те годы? Это на самом деле рекомендация. А партком факультета мне эту рекомендацию не дает. Почему? Никто ничего не может толком объяснить. Прихожу к нашему факультетскому партсекретарю профессору Юшину, а он говорит: “Что же вы, дорогуша, так плохо изучали политэкономию? Вот у вас по политэкономии социализма – трояк. Нехорошо. А по капитализму – четыре. Если бы наоборот, еще туда-сюда. А так – идеологически неправильно давать вам положительную характеристику”. Ясно, что врет. Надо что-то делать или хотя бы понять, в чем дело.
У меня был друг Саша Жуков, у него отец был академик, директор Института всеобщей истории. Я набрался сил и попросил у него помощи. Академик – Евгений Михайлович Жуков – позвонил секретарю парткома МГУ товарищу Протопопову: “Что случилось? Такой способный молодой человек!” Казалось бы, звонок от члена президиума АН СССР, председателя Международного комитета историков и прочая и прочая… Но ничего не вышло, и вот почему: на подъеме была очередная волна эмиграции, и именно в те два-три года (1973–1975) с отъезжантов решили взыскивать деньги за обучение. Вас, ребята, бесплатно учило наше советское государство – теперь верните ему потраченные на вас деньги. С тех, кто просто окончил вуз, планировалось брать что-то около четырех-пяти тысяч рублей: сумма серьезная, но в общем-то подъемная для советской семьи – дешевле автомобиля. А с окончивших аспирантуру – чуть ли не пятнадцать тысяч, невообразимо! Товарищ Протопопов всё объяснил: “Этот ваш Драгунский – мало того что еврей по отцу, а отец его вдобавок еще и в Нью-Йорке родился. Рано или поздно такие люди эмигрируют. Вот он однажды решит уехать, мы с него захотим взять пятнадцать тысяч за аспирантуру, а он скажет: «Я не на ваши советские деньги учился, а на заграничный подарок белоэмигранта Флоровского, поэтому фигу вам с маслицем». И ведь будет прав! И мы будем вынуждены отпустить его бесплатно. Так что извините”.
Я бросился к своим, на кафедру. Говорю: “Это несправедливо. Я два с половиной года был председателем научного студенческого общества. Был членом комитета комсомола. Помогал кафедре, вел занятия по латыни со студентами отделения русского языка, когда у нас не было людей, – теперь помогите мне!”
* * *
Но давайте с самого начала.
Первого сентября 1968 года было воскресенье. Повезло! Первый день занятий 2 сентября. Было очень солнечно. Вообще всё лето было солнечным, и так продолжалось почти до конца осени. Мы собрались на психодроме. Мы – это счастливцы, которых приняли на первый курс филологического факультета МГУ. А психодром – это скверик старого университетского здания за чугунным забором с двумя калитками справа и слева, с двумя памятниками – Герцену и Огареву из серого бетона, которые прятались по углам, в кустах. Они были почти одинаковые. Я смотрел на них два года, но так и не запомнил, где там Герцен, а где Огарев. Кажется, Огарев слева – ближе к филфаку.
Посредине этого очень красивого здания, выстроенного покоем, был выступ с восьмиколонным портиком и двумя лестницами, ведущими в читальный зал, где я никогда не был. Внизу, под этими лестницами, – узкий полукруглый ход в довольно длинный, метров пятьдесят, тоннель, который выводил – и сейчас, наверное, выводит – в огромный старый университетский сад. Если войти в этот тоннель с психодрома, то сразу направо была большая столовая, в которой мы довольно часто обедали и пили пиво, иногда со сметаной, была у нас такая странная забава. А в конце тоннеля был туалет. По этой причине сам тоннель назывался “пищетракт”. В правом крыле был маленький скромный вход в знаменитый Институт восточных языков МГУ, который года через три переименовали в ИСАА, Институт стран Азии и Африки. А вот слева, ближе к улице Герцена, – такая же скромная дверь с маленькой вывеской “Филологический факультет”.
Итак, мы стояли на психодроме – нам велено было прийти к девяти утра. Стояли толпой, не решаясь войти в эту маленькую дверку, и правильно делали. Потому что из этой дверки вышел какой-то человек и сказал: “Первокурсники! За мной!” Мы вышли из калитки, перешли улицу Герцена и вошли в другую калитку, в так называемое новое здание университета, творение архитектора Евграфа Тюрина и построенное лет через пятьдесят после первого, старого, которое строил великий Матвей Казаков. Вот почему Соленый из “Трех сестер” говорил, что в Москве два университета. Это мне кто-то умный объяснил за те три минуты, покуда мы шли с психодрома вслед за нашим провожатым. Обогнув памятник Ломоносову, мы вошли в роскошное парадное здание экономического факультета (в 1970-м туда переехал журфак). Кстати, именно там мы писали вступительное сочинение, потому что в нашем здании больших аудиторий не было.
Поднявшись по внутренней парадной лестнице, мы вошли в Комаудиторию (тогда она так называлась – Коммунистическая, бывшая Богословская, ныне Академическая) – огромный амфитеатр с полукруглыми дерматиновыми скамейками и удобными полочками, которые тоже шли полукругом и позволяли разложить книги и тетрадки для конспектов.
Началась торжественная церемония вручения студенческих билетов. Какие-то нам тогда еще неизвестные мужчины и женщины сидели за столом, а на кафедру вышел мужчина в черном костюме с довольно противным выражением лица. Казалось, он был чем-то сильно недоволен. Его длинный нос спускался к верхней губе, которая кривилась в презрительной усмешке. Кто-то сказал, что слово предоставляется декану филологического факультета доценту (мы все это сразу отметили – не профессору, а доценту) Алексею Георгиевичу Соколову. “Ну и рожа!” – сказала какая-то незнакомая девушка, сидевшая рядом со мной. Я решил заступиться за декана и сказал: “Ну и что такого, рожа как рожа”. – “Нет, ты посмотри, – прошептала она, – как губы надул и глазами вертит, как будто…” – “Как будто что?” – спросил я. “Как будто пирожок кушал, а там лягушка оказалась. Глотать противно, а выплюнуть неудобно”. – “Какая одаренная девушка! – подумал я. – Какой талант образности!”
Декан Соколов, в отличие от двух следующих деканов, Леонида Григорьевича Андреева и Ивана Федоровича Волкова (которых я не застал деканами, но знал профессорами и не раз общался с ними), всегда казался мне человеком холодным и надменным. Впрочем, я с ним никогда не разговаривал, но вид у него был именно такой. Однако через много-много лет одна моя хорошая знакомая, которая писала под его руководством то ли диплом, то ли диссертацию, убежденно говорила, что Алексей Георгиевич человек очень добрый, милый, тонкий знаток литературы Серебряного века, а кроме того, фотограф-любитель. Но любитель серьезный, у него были какие-то особенные фотоаппараты и объективы, и он делал потрясающе красивые женские портреты. Ну что ж, бывает.
Тем временем декан Соколов произнес короткую речь, почему-то подчеркнув, что перед нами открывается прекрасная и, можно сказать, святая перспектива – стать народными учителями. Он так и сказал. Потом я понял, что это было отражение какого-то глубокого идейно-методического конфликта в руководстве филологического факультета. Одни считали, что задача филфака – готовить исследователей, ученых, а другие – что готовить надо учителей. Сейчас мне кажется, что в этом споре, скорее всего, было что-то личное. Кому-то декан Соколов хотел накрутить хвоста, потому что учителей все-таки, хочешь не хочешь, готовят в педагогическом институте. Я говорю об этом с такой уверенностью, потому что на третьем курсе был свидетелем открытой стычки – на глазах чуть ли не всего филфака – между деканом Соколовым и его заместителем, доцентом Михаилом Никитичем Зозулей. Доцент Зозуля, обращаясь к нам, говорил, что мы должны делать новые открытия, становиться учеными, раздвигать горизонты науки и так далее, а выступивший вслед за ним декан Соколов тут же сказал: “Михаил Никитич ошибается, филфак готовит народного учителя”.
Закончив свою речь, декан Соколов слез с кафедры и подошел к столу, на котором уже лежали студенческие билеты, разложенные по алфавиту. Он стал называть наши фамилии. Мы по очереди сбегали со ступенек этого довольно-таки крутого амфитеатра, взбегали на сцену, получали билет, напутственное рукопожатие, шли на место, а навстречу несся наш следующий однокашник или однокашница. Мне достался студенческий билет, на который я, разумеется, сдал самую красивую свою фотографию. Я был на ней кудряв и очень усат. Но вот чёрт! Печать была какая-то раскляксанная, смазанная. Из-за этого со мной случилось забавное и малоприятное приключение, о котором я расскажу позже.
А лучше прямо сейчас, пока остальные ребята получают свои студбилеты.
* * *
Однажды осенью 1972 года случилось так, что я заснул в зале ожидания Савёловского вокзала. Была ночь.
Оказался я там по такой вот причине. Через несколько месяцев после смерти папы (он умер в начале мая, а это был уже октябрь) у моей мамы завелся, скажем так, близкий друг – и вот как раз в тот день он собрался к маме в гости. Это был хороший человек, между прочим, я с ним даже подружился. Довольно известный республиканский поэт. То есть не республиканец в противовес американским демократам или европейским монархистам, а поэт одной из автономных республик в составе Российской Федерации. Человек, еще раз повторяю, талантливый, милый и приятный.
Тем не менее оставаться дома мне не хотелось, и я решил пойти к своему другу Коле Мастеропуло, который жил на Каляевской в стареньком деревянном доме на втором этаже. В его квартиру был отдельный вход со двора через галерейку – длинная лестница наверх, с дощатыми стенами и крышей. Разумеется, в таком доме телефона не было, но я почему-то был уверен, что Колька у себя. И поэтому сказал маме, что Колька давно меня ждет, мы с ним выпьем, поболтаем и я у него заночую.
Тут была еще одна тонкость. Я уже был женат. Но с моей обожаемой женой Кирой мы со второго дня после свадьбы были в тяжелой невылазной ссоре. Поехать к ней – мне такое и в голову прийти не могло. Были, впрочем, еще две девочки – Леночка Большая и Леночка Маленькая. Но обе они, как на грех, были дома в кругу – верней, в кругах – своих семей. То есть с родителями.
А к другу Андрюше Яковлеву я не поехал – точно не помню почему. То ли его не было в Москве, то ли я просто не хотел отвечать на вопрос, чего это я на ночь глядя явился к нему с ночевкой. Боялся, что проговорюсь насчет мамы, поскольку не хотел афишировать ее отношения с республиканским поэтом. Я совершенно точно знал, что Кира ни с какой бухты, ни с какой барахты мне в полночь звонить не будет. Хотя кто ее знает… Поэтому на всякий случай я сказал маме: если мне позвонят, скажи, что я давно и крепко сплю и ты меня будить не собираешься. То есть я сам себе вырыл эту яму. Потому что Кольки дома не оказалось, а прикорнуть у него под дверью в этой холодной галерейке я просто-таки испугался: вдруг замерзну совсем до смерти?
Но стоило мне только задремать в зале ожидания пригородных поездов Савёловского вокзала, как ко мне тут же подошли два милиционера. “Документики”, – спросили они. Очевидно, я слишком сильно выделялся среди окружающей публики – мужиков в ватниках и теток в плюшевых душегрейках. Паспорта у меня с собой не было, и я протянул студенческий билет. “А документик-то фальшивый! – радостно закричал милиционер. – Пройдемте”. – “Почему это фальшивый?” – возмутился я. “А сам посмотри, какая печать. Эх ты, руки-крюки! – он даже похлопал меня по плечу. – Давай рассказывай цель приезда в Москву, когда и откуда”. Мы с ним долго препирались, он даже позвонил в какую-то главную милицейскую картотеку города Москвы, и, о ужас, моих имени-фамилии там не было! Каких-то знакомых и незнакомых Драгунских – полно, а меня нет! Тогда я назвал ему свой адрес и телефон. Сказал, что мою маму зовут Алла Васильевна, хотя, конечно, до смерти не хотел этого делать. Но лучше уж так, чем КПЗ, подумал я. Через восемь или двенадцать гудков мама сняла трубку. “Алла Васильевна! – вежливо сказал милиционер. – Позовите, пожалуйста, вашего сына Дениса Викторовича”. – “Он спит, – ответила мама. – Я не буду его будить”. – “Вот видите! – милиционер от радости даже на «вы» перешел. – Назовите цель приезда в Москву, когда и откуда”. Тут я вырвал трубку у него из рук и закричал: “Мама, я здесь!” Как ни странно, милиционер мне тут же поверил и сказал: “Теперь освободите помещение”. Я спросил: “А никто из вас случайно не поедет патрулировать в район сада «Эрмитаж»?” Он засмеялся и сказал: “Черт с тобой, довезем!” Вызвал какого-то другого парня, что-то ему сказал… В общем, я первый раз в жизни ехал на мотоцикле с коляской – в коляске. Ехал и думал: слыханное ли дело, меня нет в главной московской милицейской картотеке! Наверное, этим можно воспользоваться, но как?
* * *
Тем временем декан Соколов закончил раздавать студенческие билеты и объявил, что сейчас будут две вводные лекции. Введение в специальность.
Эти лекции читали два легендарных профессора – литературовед Роман Михайлович Самарин и лингвист Юрий Сергеевич Степанов.
Самарин, как я узнал чуть позже, был легендарен тремя вещами. Он был выдающийся лектор, он так поразительно читал историю европейской литературной критики, что послушать его приходили студенты других специальностей и даже, кажется, с других факультетов. Мало того что он досконально знал материал, он потрясающе хорошо умел его преподносить. Кроме того, он был специалистом по Шекспиру и вообще по классической западной литературе. Вторая его легендарность – он был не просто марксист, как все тогда, по печальной необходимости, – нет. Он был упертый марксист грубого помола. “Попахивает переверзевщиной!” – говорили о нем эрудиты-аспиранты. Валериан Переверзев, если кто не в курсе, был такой литературовед 1930 годов, который до того прямолинейно сводил всю литературу к классовой борьбе, что даже советская официальная критика начала борьбу с переверзевщиной. Опираясь на цитаты Маркса, Ленина и Сталина, товарищу Переверзеву и его сторонникам объяснили, что литература – это все-таки не фотография классовой борьбы. Но Самарин был неудержимым марксистом. Вдобавок он выступал с погромными речами и статьями, клеймил антисоветчиков и космополитов, но сам при этом был беспартийным.
Третья легенда: шептали, что Самарин – незаконный сын известного литературоведа 1920–1930-х годов академика Белецкого.
Выглядел он очень картинно и живописно: коренастый, полноватый, с толстым круглым носом, с широкими сильными руками, в черном, как казалось, мешковатом костюме, на котором единственным украшением была золотая прищепка на лацкане, от которой шла золотая цепочка к часам в нагрудном кармане пиджака. В дополнение к этому короткая седая стрижка и хриплый бас.
Последняя легенда о профессоре Самарине вскрылась сравнительно недавно. Оказалось, что этот правоверный марксист тайком писал стихи, оплакивающие судьбу казаков с проклятьями в адрес большевиков. Разыскано это было, разумеется, через много лет после смерти профессора. Возможно, в этом и был секрет его твердокаменного марксизма: гримировался.
Впрочем, это не единственный такой случай на филфаке. Был у нас еще один профессор, Геннадий Николаевич Поспелов, заведующий кафедрой теории литературы. Скучнейший, надо сказать, лектор, излагавший всё те же самые марксистско-ленинские догмы, даже не пытаясь придать им хоть какой-то подвыверт, как это делало большинство советских гуманитариев. И лицом – типичный советский чиновник от науки. Как говорится, долдон. Как же я изумился, когда узнал, что едва ли не самый знаменитый диссидентский текст 1960-х, так называемое “Завещание академика Варги”, блистательный анализ советской идеологии и экономики, со всеми убийственными характеристиками и властной верхушки, и ко всему привыкшего народа, подписанное именем пару лет назад (от того момента) умершего “крупнейшего советского ученого, выдающегося деятеля международного рабочего движения”, венгерского коммуниста, классика советско-марксистской экономической мысли (мемориальная доска с красным знаменем на доме № 11 по Ленинскому проспекту, улица его имени на Юго-Западе), – что этот текст написал наш Геннадий Николаевич, этот – простите нас, профессор! – застегнутый на все пуговицы советский долдон. Впрочем, был случай, когда Поспелов чуть-чуть себя не выдал: он был, кажется, единственным видным профессором филфака, который почти демонстративно не подписал письмо с осуждением Синявского и Даниэля.
Профессор Самарин громко и хрипло объяснял нам задачи советского литературоведения, рисовал перед нами горы книг и стога статей, которые мы должны обязательно прочесть, и вдруг ему подали записку из зала. Ее послал какой-то шутник, наверное. Не помню уже, что там было, но Самарина возмутило, что записка была написана по старой орфографии. А в начале было написано (всё это он прочитал громко вслух) “проба пера” через ять. “«Перо» через ять! – загрохотал Самарин. – Это ж надо! Это же все равно что писать «корова» через ять! Если уж вы написали мне по старинке «проба пера», то я вам по старинке отвечу: «Примите и проч.». – И чуть ли не закричал: – Но «прочь» с мягким знаком! Прочь отсюда!” – и своим коротким пальцем ткнул в аудиторию, как будто знал, кто ему написал. Никто, разумеется, не откликнулся.
А следующую установочную лекцию, по языкознанию, читал Юрий Сергеевич Степанов, тогда профессор, впоследствии академик. Степанов – полнейшая противоположность Самарину. Во-первых, молодой. Во-вторых, худощавый, изящный, ухоженный. В красивом светло-бежевом костюме. И вообще весь нежный, бархатистый. Говорящий мягким тенором. И если Самарин просто стоял на кафедре и только изредка воздевал руку, работая в основном голосом (то есть вел себя как типичный римский оратор), то Степанов был как оратор греческий, для которого важнее всего жесты. Он расхаживал по эстраде, то подходил к кафедре, то отбегал от нее, то садился на длинный, застланный сукном стол, то снова возвращался к кафедре и опирался на нее локтем, как будто пригорюнившись, и вся его фигура от безупречно причесанной макушки до светлых замшевых туфель была изящна, как будто бы нарисована французским художником. И сам он был чрезвычайно французский. Про него рассказывали, что он был личным переводчиком Хрущева с французского языка и что якобы Хрущев в благодарность за службу подарил ему кафедру общего и сравнительно-исторического языкознания на филфаке МГУ. Думаю, что в этой легенде, как и во всякой байке или сплетне, только кусочек правды. Вполне возможно, что Степанов действительно служил кремлевским переводчиком какое-то время, но вот насчет дареной кафедры явные выдумки. Мне особенно приятно было слушать Степанова, потому что я с ним был знаком. Меня ему представил еще в 1966 году Симон Маркиш, переводчик Плутарха. Должен признаться, что я не умел, как сказано у Льва Толстого, “кюльтивировать знакомства”. Поэтому, несмотря на все добрые улыбки и кивки Степанова в коридоре, – он, очевидно, меня узнавал, – я к нему так ни разу и не подошел. Впрочем, мне это было незачем. Я не собирался заниматься общим, а тем паче сравнительно-историческим языкознанием. Но, соображая задним числом, я думаю, что знакомство с Юрием Сергеевичем мне помогло жить на факультете. Возможно, какой-то мимолетный кивок Степанова, услышавшего мою фамилию, шел в копилку мнений обо мне как о “блестящем студенте”.
Странное дело. Честно говоря, учился я так себе. Я не был отличником. Случались и тройки, и пересдачи, и хвосты, и позорные провалы – например, первый незачет по немецкому. Тем не менее ко мне крепко приклеился ярлык “блестящего студента”. Я попытаюсь разобраться, понять и рассказать, в чем тут было дело.
Но вот вводные лекции закончились, и мы толпой повалили назад, на психодром. Долго втискивались в эту маленькую дверку – как странно, такой можно сказать, важный факультет, главный среди гуманитарных, и такое скромное помещение. Потом я узнал, что это крыло старого “казаковского” здания университета было общежитием. Но общежитием старинным, тогдашним, XVIII – начала XIX века. В комнате, в которой мы, то есть наш курс нашей кафедры, обычно занимались, на стене висел большой портрет Белинского. Нам объяснили, что именно вот в этой келье Белинский и жил, когда учился в Московском университете.
* * *
В эту келейку и запихивалась наша группа: Миша Бибиков, Лена Ильенкова, Толя Юдакин, Галя Ильина, Оля Мазырина, Володя Синицын, Саша Луцков, Алеша Граве и я. Эти девять человек поступили в 1968 году. И еще к нам присоединился Валентин Асмус. У него год назад, в самом начале первого курса, случился сложный перелом руки, так что он совершенно не мог писать, и ему дали академический отпуск. Итого десять человек. Давайте теперь чуточку подробней.
Миша Бибиков – тот самый абитуриент, который помог мне сдать экзамен по истории, испросив разрешения пользоваться школьным учебным атласом, а в атласе были все населенные пункты и даты, в результате чего я отлично ответил на вопрос о разгроме врангелевских армий, к чему совершенно не был готов. Сейчас он профессор, выдающийся византиновед, заведующий профильной кафедрой на филфаке, автор двухтомника “Byzantinorossica. Свод византийских свидетельств о Руси”. Уже с третьего курса мы с ним устраивали на факультете маленькие конференции под названием “Византино-русские чтения” – вот отсюда, наверное, это и выросло.
Лена Ильенкова потом стала историком психологии, вышла замуж за великолепного журналиста и писателя, ныне покойного Андрея Иллеша, и стала звучать совсем уже по-заграничному – Елена Эвальдовна Иллеш. Андрюша Иллеш был действительно на четверть венгр, внук писателя-коммуниста Белы Иллеша, а вот Ленкин папа Эвальд Васильевич был совсем русским, сыном не особо известного литератора 1930-х годов Василия Ильенкова. Эвальд Васильевич был знаменитым советским философом, культовой, как нынче выражаются, фигурой, основателем целого научного направления. “Он настоящий ильенковец!” – бывало, говорили тогда про какого-нибудь молодого философа, и для одних это было выражением восторга, а для других – клеймом.
Толя Юдакин, впоследствии профессор-лингвист, был человеком необычным. Настоящий донецкий шахтер. Попал в подземную аварию. Ему отдавило правую руку, она стала тонкая и слабая. Он получал большую пенсию, и вдруг – как рассказывал он сам – ни с того ни с сего заинтересовался древними языками. Скупал книги, в основном через “Книгу – почтой” (был такой, говоря по-нынешнему, сервис), благо денег было много – и отложенных из заработка, и пенсионных. Набрал библиотеку в пять тысяч томов, всё у себя, в Донецке. И вот решил наконец получить фундаментальное образование и поступил к нам на отделение классической филологии. Человек он был очень приятный, общительный, веселый и простой. Я несколько раз ездил к нему в общежитие готовиться к экзамену по латыни, читать и разбирать “Записки” Юлия Цезаря. Он очень хорошо объяснял разные трудные грамматические штучки, едва ли не лучше, чем наши прекрасные преподаватели. Как-то у него это очень четко и внятно получалось. Недаром он потом стал полиглотом. Не бросая филфака, он поступил в Институт восточных языков и там тоже окончил какое-то очень сложное отделение – кажется, изучал санскрит. Но именно оттого, что учился сразу на двух факультетах, в компаниях показывался довольно редко. Да он был и здорово старше нас – 1941 года рождения. Ну что значит здорово? Всего на девять лет. Но когда тебе восемнадцать, человек, которому двадцать семь, кажется если не стариком, то уж во всяком случае совсем взрослым.
Две девочки, Ильина и Мазырина, продержались у нас недолго. Возможно, они поступили к нам случайно, не имея какой-то высокой, она же глубокая или далекая, филологической цели. Про Мазырину было известно, что она была единственной, кто написал вступительное сочинение на пятерку. Случай исключительный – хоть запятую, но наврешь. Поэтому стандартно высокая отметка за вступительное сочинение на филфаке – это четверка. Странное дело, наш латинист Николай Алексеевич Федоров невзлюбил бедняжку Мазырину именно за эту пятерку. Ну хорошо, латынь она действительно не особо волокла, но зачем по поводу каждой ее ошибки поминать ей пятерку за сочинение, не понимаю. Кажется, Ильина и Мазырина потом перевелись на русское отделение. Почему-то это особенно возмущало Николая Алексеевича. “Кафедра классической филологии – это не трамплин, чтобы прыгать на другое отделение! – кричал он несчастным девчонкам. И добавлял: – Я лично добьюсь, чтоб вас не переводили, а отчислили из университета”. Но крики криками, а на отделение русского языка и литературы охотно принимали ребят, которые не справлялись с латынью и греческим.
Два парня, Синицын и Луцков, были довольно странными персонажами. Если Толя Юдакин был шахтером, то Володя Синицын был рыбаком с траулера, тоже рабочим человеком. Он опоздал к началу занятий на неделю, потому что его с траулера не отпускали. “Надо было рыбу шкерить! – растерянно объяснял он. – Я им справку о зачислении показываю и приказ министра, а они говорят: шкерить надо!” Учился он так себе, но, кажется, тоже не пропал: я его мельком встречал в библиотеке иностранной литературы уже после того, как он ушел с нашего отделения. Саша Луцков – бывший матрос торгового флота. Вылитый Костя-моряк из песни – высокий, красивый, смуглый, голубоглазый. Великолепно мускулистый, полный шуточек и прибауточек, пословиц и поговорок и замечательных полупристойных историй из свой моряцкой биографии. Так и хочется спросить словами из комедии Мольера: “Кой черт понес его на эту галеру?” Я имею в виду – на отделение классической филологии филфака МГУ. Мне почему-то казалось, что ему самый лучший путь был бы в ИМО, стать международным чиновником, каким-нибудь уполномоченным ООН по борьбе с засухой. Я так и видел его в шортах цветах хаки и в пробковом шлеме в окружении местных жителей, которым он привез пресную воду и мешки риса. Не знаю, как сложилась его судьба, помню только, что на втором курсе его уже не было. Через много лет мне сказали, что он сравнительно рано умер.
Алексей Граве был из Смоленска. Наш латинист Федоров спросил его, не родственник ли он известного актера из Вахтанговского театра. Алексей равнодушно помотал головой. Он был мрачноватый молчун. Потом он ушел из нашей группы, перевелся на романо-германское и тоже не пропал. Через много-много лет я встретил его на книжной ярмарке. Мы узнали друг друга. Он сказал, что преподает итальянский. Так что всё в порядке.
И наконец, вернувшийся из академки Валя Асмус, ныне протоиерей, настоятель храма Покрова Богородицы в Красном Селе – недалеко от метро “Красносельская”. Умница, теолог, многодетный отец. Человек добрый, вдумчивый, сочувственный. А тогда – еще и очень веселый, компанейский. От тогдашней дружбы с ним у меня остались самые лучшие воспоминания. Сейчас мы встречаемся редко, но всякий раз это бывают приятные встречи.
* * *
Первые два года нашими самыми главными преподавателями были двое.
Во-первых, Николай Алексеевич Федоров – латынь.
Может быть, я слишком часто употребляю слово “легендарный”, но что же поделать. Филфак действительно легендарное место, и профессора там легендарные, и многие студенты и аспиранты тоже – особенно те, которые потом достигли серьезных филологических высот. Например, Сережа Старостин, младше меня на один курс, выдающийся лингвист современности, или мой однокурсник, погибший в ковид Коля Богомолов, великий знаток русской литературы начала ХХ века, или Нина Брагинская, курсом старше. Еще Вера Мильчина, Оля Седакова, Саша Ливергант. Из тех, кто был старше нас на несколько лет, – Раскин, Долгопольский, Хелимский. Были и легенды мелькнувшие, оставшиеся только в нашей памяти, такие как Витя Манзюра или Саша Сахаров.
Николай Алексеевич Федоров настолько легендарен, что среди филологов-классиков есть такое деление – на тех счастливцев и баловней судьбы, кто учился латыни у Федорова, и тех неудачников, которые пришли в филологию слишком поздно, когда Николая Алексеевича уже не было с нами. Кстати говоря, он вел занятия буквально до последних недель своей жизни, а умер он на девяносто втором году. Но тогда, когда мы пришли к нему, – или он пришел учить нас, – ему было едва сорок три. Нам он, однако, казался чуть ли не стариком. Серебряно-седой, худой, очень изящный, с красивым преподавательским голосом. Резкий, немножко нервный – мог повысить голос, хлопнуть ладонью по столу. Опрашивая нас, мог не называть фамилию, а просто тыкал пальцем – вы, вы, вы. Если мы ошибались, он всё время повышал голос: вы! вы!! вы!!!
Разгневанный Федоров бывал очень язвителен. Свои упреки и угрозы он называл “жалкими словами”, адресуясь к роману Гончарова “Обломов”: “Мне надоело говорить жалкие слова!” То есть – пора вас отчислять.
Он легко мог довести до слез юную, запуганную латынью первокурсницу. Как-то раз (уже в новом здании) я шел по пустому коридору – у нас было окно между занятиями – и увидел, что у стены стоит девушка и рыдает. “В чем дело?” – я бросился к ней. Наверное, она меня узнала и сказала, что Федоров ее выгнал с занятия и сильно отругал вдобавок. “Пойдемте со мной!” – я взял ее за руку, привел на кафедру и прямо с налету сказал нашей завкафедрой, самой Азе Алибековне Тахо-Годи: вот, глядите, Федоров издевается, студентка плачет, это недопустимо, и мы будем принимать меры. Кто – мы? Я тогда был членом факультетского комитета комсомола и вдобавок председателем научного студенческого общества. То есть храбрый до чертиков. Аза Алибековна сама отвела девочку обратно в аудиторию. Я шел рядом.
С Федоровым у меня были неплохие отношения. Иногда мы перебрасывались двумя-тремя словами на совсем уж не филологические темы.
Однажды я очень обиделся на одну девушку, однокурсницу с другой кафедры. Она меня, если коротко, завлекла и бросила. Сильно завлекла, но бросила резко и оскорбительно. Сказала, что я у нее “второй заместитель”. Я не понял. Она объяснила, что называется, на пальцах: не может обещать, что пойдет ко мне в гости, потому что ждет звонка от Сережи. Если он до семи не позвонит, она позвонит Диме. Ну а если Дима не захочет, тогда – может быть – мне повезет. Понятно? Я опешил от такого цинизма и трубку бросил. А через неделю она (издевательски, как мне казалось) позвала меня на свой день рождения. Мне захотелось ее ответно обидеть, оскорбить, обозвать дурным словом. Громко, но тайно! То есть – сказать всё, что я о ней думаю, но так, чтоб никто не догадался, кого я в виду имею. И вот, стоя рядом с Федоровым в буфете, я этак непринужденно спросил: “Николай Алексеевич, помогите неопытному юноше!” – “Да, постараюсь!” – отозвался он, чуточку даже польщенно. “Посоветуйте мне, что подарить на день рождения некоей обаятельной, но мерзкой девице? Я бы сказал, одной великосветской шлюхе”. Конечно же, моя обидчица никакой шлюхой не была, а если и была чуть-чуть, то уж никак не великосветской. Но мне очень хотелось ее обругать как следует. “Великосветская шлюха? – засмеялся Федоров. – Это вы про…” И он произнес имя-фамилию одной нашей преподавательницы, молодой и очень красивой. “Нет, нет!” – сказал я. Федоров понял, что сказал лишнее. Но и я понял, что узнал лишнее…
* * *
Мы учились латыни по новому учебнику, который Федоров написал вместе с Валентиной Иосифовной Мирошенковой – не слишком толстая книга в мягкой обложке. Учебники древних языков тогда были большой проблемой. Старую, почтенную и в общем-то очень хорошую греческую грамматику и латинскую хрестоматию Соболевского (тоже легенда, но которую мы не застали, умер в 1963 году) можно использовать в крайнем случае с середины второго курса, а лучше с третьего. Простой и четкий учебник появился всего за год до нашего поступления.
Разумеется, я никому слова не сказал, что еще годом раньше с Валентиной Николаевной Чемберджи я уже прошел начальный курс латинской грамматики и даже читал Юлия Цезаря. Хотя я почти уверен, что на кафедре это знали, не могли не знать. Уж больно узок круг. Потом я узнал, что с 1936-го до 1986 года наша кафедра выпустила всего 400 человек. Однако, когда я отвечал хорошо, когда лихо переводил Цезаря, Федоров ни разу мне не намекнул: “Конечно, вам это легко, вы это уже с Валечкой проходили”. А когда я, наоборот, делал ошибку или терялся перед какой-то запутанной фразой, он не говорил мне что-то вроде “Эх вы, латинист доморощенный, самодеятельный”. Был такой, что ли, взаимный заговор молчания. Недаром Клара Петровна Полонская во время моего первого визита на кафедру в 1966 году предупредила меня: “Только не дай бог вам сказать, что вы изучали латынь, у нас этого не любят”.
* * *
Здесь хочу сделать маленькое отступление. Про “гимназистов” и “аутентистов”.
В латыни и древнегреческом есть проблема произношения: как сегодня надо произносить слова, написанные две или даже почти три тысячи лет назад?
При изучении древнегреческого языка большинство студентов, да и ученых тоже, использует так называемую Эразмову систему (названа в честь Эразма Роттердамского, который ее и предложил). Тут надо произносить каждый звук в соответствии с буквой: “э краткое” и “э долгое”, “и”, “ю”, а также дифтонги “эй”, “ой”, “юй” и “ай”. Бету называть “бетой” и читать как “б”.
Другой вариант – Рейхлинова система (в честь Иоганна Рейхлина, друга Эразма) – произносить, как современные греки. Но тут получается, что “э долгое”, “и”, “ю”, “эй”, “ой” и “юй” надо читать как “и”. А “ай” – как “э”. Бету называть “витой” и читать как “в”. На самом деле, конечно, такое произношение ближе к реальности – особенно что касается эпохи более поздней, чем классическая, чем V–IV век до нашей эры; тем более это касается греческого языка Византии. Анализ описок в византийских рукописях показывает это со всей очевидностью.
Но вот вам такой пример, простите, что русскими буквами: “тре́хей” (он бежит), “тре́хэ” (чтобы он бежал), “тре́хой” (если бы он бежал). Однако по-рейхлиновски, то есть по-новогречески, во всех трех случаях читается как “тре́хи”. И это не только про данное слово, а про спряжение любого глагола. Ясно, что такое произношение мешает выучить древнегреческий язык во всей его грамматической сложности: времена, залоги, наклонения. А если взглянуть на вещи поверхностно, то можно предположить, что фонетика в какой-то мере повлияла на грамматику: фонетическое упрощение привело к устранению омофонных грамматических форм. Это, повторяю, поверхностный взгляд – но иногда он бывает полезен.
Есть проблемы и с произношением в латыни. До третьего курса на нашей кафедре господствовало произношение, унаследованное от старых российских гимназий, а к нам пришедшее из немецких школ. Латинское “c” перед “a”, “o” и “u” читается как русское “к”, а перед “e” “i” – как “ц”. Диграф “ae” читается как “э”. Таким образом canis – канис, contra – контра, culpa – кульпа, но при этом cervus – цервус, cinis – цинис. Ну и разумеется, Cicero – Цицеро, а Caesar – Цезарь. Однако аутентичное произношение – это когда “c” всегда читается как “к”, а диграф “ae” – как дифтонг “ай”. Поэтому Цицерон становится Кикероном, а Цезарь – Кайсаром.
Когда мы были на третьем курсе, Николай Алексеевич Федоров поехал на международную конференцию латинистов в Варшаву. И с тех пор стал учить новых студентов произносить “с” как “к” во всех позициях, как это и делается уже во всем мире. Но мы, которых учили по-гимназически “цекать”, отказались аутентично “какать”. Я понимаю свою устарелость – но читать латинские стихи на “к” мне просто невмоготу. “Eheu fugaces” декламировать как “эхэу фугакес”? Брр! Никогда! Впрочем, меня никто и не заставляет.
* * *
Вторым главным человеком была Валентина Иосифовна Мирошенкова, которая вела у нас начальный курс греческого языка. “Латынь надо учить быстро! – говорила она. – Чтобы осталось больше времени на греческий”.
Полная противоположность Николаю Алексеевичу. Небольшого роста, курносая, очень обаятельная, но совсем некрасивая. Она рассказывала нам, первокурсникам, как какой-то студент-иностранец сказал ей: “Ах, как вы похорошели”. “А я ему отвечаю – ну что же, есть куда! Есть куда!”
Стандартного учебника у нас не было. Во всяком случае, я такого не помню. Я пользовался дореволюционной грамматикой Нидерле. Толстенная книга Соболевского хотя и называется учебником – все-таки грамматический справочник, и несколько страничек упражнений в конце совершенно не меняют дела. Валентина Иосифовна достала какой-то немецкий учебник, кажется, Вольфа. Там были смешные фразы: “Геракл был добрым помощником для земледельцев” или “Одиссей долго плыл на корабле по морю”. Но хоть так. Впрочем, мы довольно скоро начали читать Ксенофонта.
В этом смысле древние языки изучать интереснее, чем современные, потому что в современных языках можно по три года сидеть на упражнениях или искусственных статьях, так называемых topics – работа, улица, магазин.
Если Николай Алексеевич был резким и строгим, то Валентина Иосифовна – смешливой и добродушной. Но на самом деле она была еще строже, чем Федоров, потому что строгость Федорова по большей части выражалась в хлопанье ладонью по столу, в нервном хождении по аудитории, в обидных фразах и грозных взглядах. Но строгость Валентины Иосифовны заключалась в оценках. “Двойка”, – ласково говорила она, и глаза ее лучились добрым смехом. Она чуть-чуть пришепетывала, у нее часто получалось “тфойка”. “Тфойка, – говорила она, смотрела на меня и улыбалась. – Странное дело. Вроде бы мальчик из интеллигентной семьи, а такая тупость. Такая, извините за выражение, бездарность”. Или ставила тройку. Я начинал ныть: “Валентина Иосифовна, ну почему опять трояк…” – она отвечала: “Никакой не трояк, а «удовлетворительно». Что это значит? Значит, преподаватель удовлетворен. Тем более удовлетворен должен быть студент!” Но несмотря на это, и она считала меня “блестящим студентом”, вот ведь удивительно.
Про нее тоже была легенда.
Самый конец сороковых. По всей стране идет борьба с космополитизмом, то есть антисемитская кампания. Она тогда была студенткой. Однажды она зашла по какому-то делу в партком факультета. Парторг пригласил ее сесть и задушевно сказал: “Имя у вас красивое – Валентина. И фамилия Мирошенкова тоже хорошая, нормальная, русско-украинская. А вот отчество странное. Откуда у простой русской девушки какое-то не наше отчество – Иосифовна?” – “Вам не нравится имя Иосиф? – холодно спросила она и подняла глаза на портрет Сталина, висевший на стене. – С этого места подробнее, пожалуйста!” Парторг вскочил из-за стола и выбежал из кабинета, и потом в коридоре всегда старался ее обойти.
* * *
Еще у нас был русский язык. Преподавательница Наталья Константиновна Пирогова. Сначала лексика, потом фонетика, потом всё остальное.
Лекции по русской фонетике читал Михаил Викторович Панов. Как я позже узнал, человек тоже великий и легендарный, но тогда, увы, это прошло мимо меня.
Немецкий язык преподавала Нина Ивановна Власова, просто милая тетенька. Она нам рассказывала, что дружила с Александром Величанским, и даже читала нам его стихи. Был такой молодой поэт – не то чтобы авангардист, но весьма оригинальный. Ну как молодой – старше нас лет на десять. Я слышал о нем от своей дачной подруги Лены Матусовской и очень удивлялся, что может быть общего у молодого поэта и нашей Нины Ивановны, такой картиночной советской преподавательницы лет сорока, мещанки в самом хорошем смысле слова (когда мы однажды пришли к ней домой сдавать зачет, она застелила газетами пол в коридоре и в комнате). “Какая разница между жизнью и Рокфеллером? – поучал меня мой старший друг Гриша Меликишвили, он же лорд Грегори. – Жизнь богаче!”
В нашу немецкую группу к Нине Ивановне Власовой пришла студентка со второго курса нашего отделения Марьяна Шаньгина. Она по какой-то причине – то ли была в академке, то ли еще что-то – не сдала немецкий, и поэтому пришла к нам повторять курс. Про Марьяну расскажу потом, если наберусь храбрости.
Еще у нас были общие лекции по истории КПСС.
Зачем сейчас объяснять, что это такое? Можно сказать, что это была своего рода новейшая политическая история страны. А можно сказать, что это была бессовестная промывка мозгов молодого поколения. И то, и другое будет и правдой, и неправдой одновременно. Потому что эта политическая история, несмотря на обилие имен и дат, была, мягко выражаясь, какая-то кривобокая. А промыть мозги молодому поколению в лице студентов филфака было не так уж просто. У девяноста процентов студентов мозги уже были настроены на диссидентскую волну. А если совсем честно, то на волну цинического двоемыслия: почитаем самиздатского Солженицына и пойдем на комсомольское собрание. Помню, на истории партии мы играли в преферанс, и наша преподавательница Ольга Ивановна Митяева это заметила и очень смело пошутила: “О чем задумались, молодые люди? Второй король не ловится?”
Как-то раз мы сидели в ряд – я, то есть Драгунский, Миша Бибиков, Саша Алексеев с немецкого отделения, наш Саша Луцков и еще один немец, Юра Гинзбург – сын известного переводчика и публициста Льва Гинзбурга. Мы скуки ради стали писать абсурдистскую пьесу. Писали мы ее по методу игры в чепуху. Один человек писал реплику и отдавал бумажку второму, и так далее. К концу лекции получилось несколько страничек очень смешной и очень похабной белиберды. Пьеса почему-то называлась “Сова”, подзаголовок – антидрама. Сова там была одним из главных героев. А герои были такие: сова, низкорослый дебил, голая женщина с восемью ногами, оживший бюстгальтер на меху и голос Маяковского за сценой. Потом мы сочинили автора. Имя его сложилось из первых слогов наших фамилий. Автора звали Драбибал Луцгин. Мы придумали, что это современный монгольский авангардист-диссидент. Украсив эту пьесу разными подробностями – предисловием автора, историей постановок, – мы стали читать ее знакомым ребятам. Даже записали на магнитофон.
* * *
Вот еще две легенды, вернее сказать, полторы.
Первая безусловная легенда – это профессор Сергей Иванович Радциг, автор книги “Введение в классическую филологию”, а также автор, соавтор и редактор бесчисленных учебников и изданий античной литературы. У него учился Аверинцев; в интервью он говорил, что взял у Радцига все знания, которыми тот делился.
“Бери, что дают” – весьма полезный принцип для студента-филолога. Не надо корить старого профессора за отсталость. Надо брать у него то, что есть, что он может дать.
И вот нам несколько торжественно объявили, что введение в специальность будет читать сам Сергей Иванович. Это было не в аудитории, а в комнате, которую занимала наша кафедра, если я, конечно, правильно помню. Комната была маленькая, но длинная. Стол с телефоном стоял у окна. За этим столом сидела лаборантка Большакова, которую мы звали Большевикова. А ближе к двери стояли три стола и стулья. Сбоку висела маленькая доска. То есть это была и кафедральная комната, и аудитория одновременно.
Мы расселись, и вошла пожилая дама в огромной шляпе, на которой были разные цветы и фрукты. Это была супруга Сергея Ивановича. Под руку она ввела легендарного профессора. Он был маленького роста, весь розово-желтый и седой, как будто бы сделанный из туалетного мыла и тополиного пуха. Он сел на стул перед нами, взял в руки мел и, не вставая, поскольку доска висела совсем рядом, написал по-древнегречески “В начале было слово”. То есть первый стих из Евангелия от Иоанна. А дальше он … И вот тут я умолкаю… Хочется сказать – понес сущую несусветицу, но эту будет неуважительно по отношению к ветерану и корифею. Сказать же, что он рассказал нам нечто глубокое, философское и филологическое, будет неуважением к философии и филологии. Вкратце он объяснил нам, что недаром в Евангелии сказано, что в начале было слово, потому что слово действительно было в начале всего. Забавно, однако, что под словом – по-гречески “логос” – он имел в виду не религиозно-мистическое значение этого слова, нечто сходное с изначальной мыслью евангелиста, то есть с первичным духом или с Софией, премудростью Божьей, равно как и с логосом в светско-философском смысле. Он говорил просто о слове и о том, что мы будем заниматься филологией, то есть наукой о словах. Ей богу, ради этого не стоило устраивать специальную лекцию и вытаскивать старика из дома.
Но и тогда, и тем более сейчас я слишком критичен к нему, несправедливо критичен. Теперь мне хочется сказать самому себе: ты, брат, сначала доживи до этих лет, а потом уже посмотрим, какую околесицу будешь нести ты. Впрочем, и тогда и у меня, и у Миши, и у Лены была некоторая тень сомнения в справедливости наших насмешек. “Старенький, старенький”, – вздыхали мы. И в самом деле, ему было тогда восемьдесят четыре года. Мы вспомнили, как нам рассказывали старшие, что на поточных лекциях Сергей Иванович, бывало, забывшись, начинал читать “Илиаду” и читал ее наизусть чуть ли не сорок минут. Это было красиво. Студенты тихо листали конспекты, а в первом ряду сидела его жена в своей знаменитой шляпе с цветами и фруктами.
Наша встреча с Сергеем Ивановичем была последним занятием, которое он провел. Он скончался 4 октября, когда мы были на морковке.
* * *
Еще одним легендарным человеком, пусть не столь знаменитым как Радциг, был профессор Александр Николаевич Попов, соавтор давно устаревшего учебника латыни Попова и Шендяпина. Про Павла Матвеевича Шендяпина нам отдельно рассказывала Валентина Иосифовна Мирошенкова. Якобы у него в пенсионном возрасте вдруг начался роман со студенткой. Студентка была странноватая. Какая-то мрачная и порывистая одновременно, ну и, конечно, старше остальных лет на пять, наверное. “Ого! – подумали, а может быть, и пробормотали мы. – Какая разница, в двадцать один или в двадцать шесть заводить шашни с шестидесятипятилетним стариком?” Но Валентина Иосифовна сказала, что эта студентка все-таки вышла за Павла Матвеевича замуж и все последние свои годы он провел в полном счастье, но с работы уволился.
Разумеется, его старинный соавтор Александр Николаевич Попов был совершенно в этом не виноват, но всякий раз, когда он, шаркающий, седенький, сутулый, показывался в конце коридора, мы с Мишей Бибиковым шепотом обращались к нему через весь коридор: “Попов! Где твой Шендяпин?” Он нас не слышал, потому что мы, повторяю, кричали шепотом, да и глуховат он был.
Любимый кафедральный анекдот. Сидят на кафедре два подслеповатых старика, Попов и Радциг. Входит наш молодой красивый доцент Исай Михайлович Нахов. Тут Радциг спрашивает: “Кто это пришел?” Попов отвечает: “Это пришел Нахов! Нахов пришел!” А Радциг изумляется: “Александр Николаевич, куда-куда?”
* * *
Впрочем, сам Исай Михайлович тоже был легендарный человек. В солидном сборнике памяти С. И. Соболевского “Вопросы античной литературы и классической филологии” (1966) была статья Исая Михайловича о философах-киниках – они же циники, если принять латинизированное гимназическое произношение. Антисфен, Диоген и т. д. Статья начиналась словами “Тернист и извилист путь человечества к познанию, культуре и коммунизму”. Впрочем, возможно, здесь был некоторый кинизм, то есть цинизм, самого автора. Рассказывают, как в том же самом 1966 году секретарь парткома зазвал Нахова в пустую аудиторию, вытащил из портфеля папку, а из папки бумажку и сказал: “Прочитай, Исай Михалыч”. Это было письмо, осуждающее Синявского и Даниэля, уже с целым столбиком подписей профессоров, доцентов и старших преподавателей. “Вот! – чуть-чуть двусмысленно сказал секретарь парткома. – Каковы гады, а?” – “Гады! – столь же безадресно воскликнул Нахов. – Двурушники! Негодяи! Патентованные подлецы!” – “Не части, – сказал секретарь парткома. – Подпиши и забудь”. Нахов полез в боковой карман. “Черт! – сказал он. – Авторучку на кафедре оставил, я сейчас, буквально три секунды”. Вышел из аудитории, быстро дошел до кафедры, забрал портфель, сбежал вниз по лестнице, дошел до метро и двинул на дачу… Благо была пятница. А следующее занятие у него было во вторник.
Оглядываясь на те времена из нашего цифрового сегодня, начинаешь понимать, что в отсутствии мобильников и мессенджеров были свои плюсы.
Рассказывали также, что Нахов был большим донжуаном. Кто-то видел, как он шел по бульвару сильно навеселе следом за девушкой и бормотал: “Пуговки, пуговки!” Почему пуговки? Причем тут пуговки? Но эти слова стали его тайным прозвищем. “Пуговки” – у нас с Мишей Бибиковым означало – Нахов. “Кто зачет принимает? Пуговки!”
* * *
Наш первоучитель латыни Николай Алексеевич Федоров с тайным сарказмом относился к Радцигу и Попову. Он рассказал нам, что один из этих легендарных стариков получил свое профессорское звание в общем-то случайно. Потому что чуть ли не в 1918 году, сразу после революции, был вызван в какой-то губнаробраз с целью присвоения ученого звания. И вот якобы только по этой повестке уже в тридцать каком-то году он получил профессорство, поскольку, как он утверждал, все документы пропали, как тогда говорилось, “в пламени Гражданской войны” и лишь эта бумажка неоспоримо свидетельствует о его правах на звание профессора, ехидно сказал Федоров. Но так и не выдал, кто из них – по его мнению – был самозванцем.
Когда мы в начале октября вернулись с морковки, Сергей Иванович Радциг уже умер и был похоронен. А весною его довольно богатая домашняя библиотека, полная изданий античных авторов, исследований, учебников и журнальных оттисков, поступила в продажу в букинистический магазин. Я там тоже кое-что купил.
А сейчас – морковка!
2. Морковка
Недели через две нас снова собрали в Комаудитории и объявили, что весь наш курс вместе с факультетом журналистики поедет на… “На картошку!” – выкрикнул кто-то из зала. “Нет, – сказал комсомольский секретарь, – на морковку”.
Автобусы отходили от главного здания МГУ на Ленинских горах. Меня провожала мама. Она смотрела на наших ребят, которые бродили по площадке, и вдруг прямо ахнула. “Боже! – сказала она. – Смотри, какой парень, вылитый Кирилл Молчанов, знаешь, есть такой композитор?” – “Знаю, – сказал я. – «Огней так много золотых». Это его сын Володя”. – “С ума сойти! – сказала мама. – Ну просто один в один”. Рассказала мне, что композитор пользовался большим успехом у женщин. “Наверное, его сын тоже жуткий бабник”, – сказала мама. Я этого не знал – откуда мне было узнать за две первые две недели? Тем более что мы были на разных отделениях – он на романо-германском, я на классике. Но именно на этой морковке Володя познакомился со своей женой. Она была кубинка, ее звали Консуэло, фамилия Сегура, прозвище Чата, то есть курносая. Она действительно была курносая. Они как подружились в 1968 году, так и прожили до самой Чатиной смерти, которая, увы, случилась в 2023 году. Володя был любящим и верным мужем. Такое тоже бывает – правда, не слишком часто.
* * *
Наш морковный десант направлялся в деревню Ланьшино Серпуховского района Московской области на Оке, на самом стыке областей Московской, Тульской и Рязанской. Хотя для нас это не имело никакого значения. “Тоже мне, Бельгия, Голландия и Франция!” – шутили мы, сидя в автобусе. Но все равно было интересно.
Командиром нашего отряда был молодой тогда доцент Юрий Николаевич Караулов – впоследствии директор Института русского языка, специалист в области лингвистического конструирования и автор очень интересного “Русского семантического словаря”. Небольшого роста, румяный, круглолицый, куривший трубку. Комиссара отряда у нас, кажется, не было, или я не запомнил. Комиссар у нас был через два года в стройотряде, но это отдельная история.
Приехали, разместились в корпусах пионерлагеря. Тогда деревня Ланьшино была людной и очень оживленной. Люди работали в поле, выращивали эту самую морковку, а также кормовой корнеплод со странным названием “кузик”. Какая-то разновидность турнепса. Мы его тоже собирали. Страна уже давно была в космосе, но морковоуборочного комбайна, кажется, так и не изобрели. Картофелеуборочный был, а насчет морковки ни-ни. Трактор, проходя по длинным рядам морковного поля, плугом взрывал землю, а мы шли следом, выдергивали морковь, отбивали ее от липкой глинистой земли и кидали то в корзины, а то сразу в мешки.
Ланьшино была деревней вполне благоустроенной, там даже гнали самогон. Мы, бывало, покупали самогонку у деревенских теток, а бывало и совсем смешно: мы приносили им в корзинках отборную, калиброванную, прямо-таки выставочную морковку, которую они потом везли в Москву на рынок, и за это нам полагалось вознаграждение в объеме стакана.
А сейчас я заглянул в интернет и выяснил, что в деревне Ланьшино населения осталось шесть человек, а на фотографии какие-то ужасные халупы-развалюхи, не сравнишь с крепкими домами конца 1960-х. Урбанизация!
Кормили нас утром и вечером в столовой, тоже пионерлагерной. Давали много тертой редьки – говорили, что это хорошо от простуды. В самом деле, вроде бы никто из наших не болел. Днем привозили что-то вроде полдника прямо на поле. Командовали этим делом самые ловкие ребята и девчонки, которые, как в ГУЛАГе, сумели устроиться на кухне, на хлеборезке. Хотя, думается мне, они в конечном счете проиграли. Все-таки наша морковная страда – не сравнить с лагерными общими работами. Работали мы, особо не перемогаясь. Морковку часто не вытаскивали, а ногами выпинывали из земли. Наверное, много оставляли. Во всяком случае, председатель колхоза, а может быть, директор совхоза, не помню, по фамилии Куницкий был очень нами недоволен. Даже на собрании сказал, что толку от нас как от козла молока, сплошные заботы. Мы все засмеялись, а мой однокурсник Володя Молчанов, впоследствии знаменитый телеведущий, состроил партийную рожу и сказал: “Зато это имеет большое политическое и воспитательное значение”. И мы все заржали еще громче. Куницкий махнул рукой и ушел.
Пьянка была жуткая. Мы были молодые-крепкие, могли выпить много, но рассчитывать свои силы не умели – поэтому напивались порой до безобразия. Один парень однажды поздно вечером облевал весь тамбур, и потом не давал нам всем уснуть, прося прощения, всю ночь ныл: “Извините, ребята, извините, ребята”. А другой – очень интеллигентный юноша, почти непьющий, что было редкостью (впоследствии завкафедрой французского языка в одном хорошем вузе), – проснулся и, не разобравшись, в ответ на очередное “извините” сказал: “Ну что ты, дорогой, нам даже приятно”. Мы часто вспоминали этот случай.
Однажды мы послали товарища за водкой на другую сторону Оки. Это было серьезное мероприятие. Сложились, вручили ему крупную сумму. Но то ли лодочник был пьян, то ли вражеская торпеда попала – в двух метрах от берега лодка перевернулась, и наш посланец вместе с кошелкой и драгоценным грузом вывалился за борт. Мы, которые его встречали на лодочной пристани, ахнули, испугались. Уже было наплевать на водку – наш дружок, показавшись над холодной сентябрьской водой, вдруг снова ушел под воду. Утонул? Нырнул? Мы заорали еще громче, но секунд через десять его голова снова показалась на поверхности, и он в воде побрел к берегу и наконец вышел в промокшем ватнике, держа в руках кошелку с водкой. Мы были так потрясены его героизмом, что весь путь от пристани до лагеря, а это было, наверное, с километр, несли его на руках в буквальном смысле слова. А там отправили на кухню, велели сушиться и греться и очень зауважали. Он был маленький, худенький, из Татарстана. Говорили, что его приняли, потому что он понравился лично Ольге Сергеевне Ахмановой, тоже легендарной даме, заведующей кафедрой английского языка.
Чем он мог понравиться этой валькирии, не знаю. Тихий провинциальный мальчик. Может быть, у него было “хорошее произношение”?
* * *
Ах это произношение!
Ни при обучении французскому, ни при обучении немецкому, не говоря уж об испанском и итальянском, вопрос о произношении не стоял так резко и обидно, как в английском языке. Уже потом я не раз был свидетелем, как детей не принимали в английские школы, потому что они то ли картавили, то ли шепелявили, то ли слегка заикались. Господи Иисусе, неужели среди англичан нет ни одного картавого, заикающегося или шепелявого человека? Откуда эта странная привязанность именно к произношению? “Ах, у нее такое произношение!” – часто выхваляли какую-нибудь даму, которая не могла сказать по-английски самую простую фразу, хоть чуточку выходящую за пределы элементарного курса. Зато произношение! Как будто они готовили шпионов, честное слово. Тоже на самом деле глупо, потому что это ваше хваленое произношение что в английском языке, что в русском очень сильно различается от региона к региону, от социального класса к социальному классу, даже от возраста к возрасту.
Но что это я прицепился к этому проклятому произношению? А вот что. У нас на английской кафедре был преподаватель по фамилии Егоров. То ли Григорий Георгиевич, то ли Георгий Григорьевич, неважно. Все его звали Джи Джи Егоров. Да, у него было отличное произношение, наверное, какая-то британская университетская разновидность. Чистый оксфордский прононс. Он был высокий, полноватый, черноволосый. Скорее даже красивый – но безумно жестокий, настоящий садист. Он преподавал фонетику английского языка. Очевидно, кто-то не понимал, что фонетика как филологическая дисциплина и умение красиво и артистично произносить звуки – это две большие разницы. Или даже четыре. Так вот, этот Джи Джи буквально на третьем занятии, как жаловалась мне моя подруга, разделил группу на две части. Пятерых посадил на передние скамейки, остальных на задние и сказал, обращаясь к заднескамеечникам: “А с вами я вообще заниматься не буду, потому что у вас от природы никудышное произношение”. Дело кончилось тем, что мою подругу чуть не отчислили именно из-за злобного Джи Джи: неуд по английскому, по главной профильной дисциплине. Слава богу, она как-то сумела оформить себе академический отпуск и на следующий год прекрасно сдала эту чертову фонетику другому преподавателю.
Но, возвращаясь к нашему героическому спасителю кошелки с водкой. Ольге Сергеевне Ахмановой понравился он все-таки не зря. Он довольно скоро защитил две диссертации и стал профессором.
* * *
Кроме собственно морковки, которая отнимала у нас не так уж много времени и сил, и кроме непременной почти ежевечерней пьянки были танцы и были девочки. Нас было примерно двести человек, из них семнадцать – мальчики. Этот гендерный дисбаланс делал ухаживания чуточку легче. Все ходили на танцы, гуляли по заросшим аллеям пионерлагеря, ну и, разумеется, целовались в беседках.
Я тоже целовался. С двумя, а может быть, даже с тремя разными девчонками. С постоянной девочкой постоянно, а с двумя так, попеременно, когда у моей постоянной не было настроения или она шла танцевать, а я быстрых танцев не любил.
Там была одна очень умная девочка. То ли с французского отделения, то ли со структурной лингвистики. С ней в самом деле было интересно поговорить о разных литературных или семантических материях. Однажды мы долго так разговаривали в беседке, и я оказывался к ней всё ближе, ближе, ну как-то так само получалось. Она смотрела на меня всё пристальней, всё пристальней, продолжая говорить что-то умное, умное, умное. И я – то ли мне действительно захотелось ее обнять, то ли это было шаблонно-ритуальное действие, – но я залез к ней под куртку. Обнял ее сзади, выдернул кофточку из штанов, просунул руку и прислонил свою ладонь к горячей голой спине. “Какие вы, мужчины, все-таки животные, – сказала она мне тихо, но отчетливо. – Я знаю, что тебе нужно”. – “Что?” – растерянно спросил я. “Тебе нужно только мое тело!” – сказала она, придвигаясь ко мне еще ближе. “Что ты! – растерялся я и выдернул руку у нее из-под кофты. – Что ты, прости меня, мне с тобой так интересно разговаривать, ты такая начитанная, такая умная”. – “А ты дурак!” – закричала она, больно стукнула меня кулаком в грудь и убежала.
Это был не единственный такой случай в моей жизни. Много раз так было, и все эти разы я отчетливо помню. Помню, как девушка говорила: “Не надо, прошу тебя, не надо”, “Лучше давай в другой раз”. Или, например: “Сегодня мне нельзя, опасный день”. Или даже, вы не поверите: “Умоляю, пожалей меня!” – совсем как Грушенька Светлова Мите Карамазову во время кутежа в Мокром. Я всякий раз ласково и понимающе отвечал: “Прости, да, конечно, извини, хорошо, в другой раз, ну что ты, что ты, милая, только не бойся”.
Но иногда в ответ – прямо тут же, через полминуты, или на другой день при встрече в факультетском коридоре – получал злую насмешку и обидные слова: “Ты не мужчина. Настоящие мужчины так себя не ведут. Ты просто размазня”. Но я не стал себя ломать и переучиваться. И в конечном счете – особенно в свете новейших тенденций в области сексуальной морали – наверное, оказался прав.
* * *
К нам приехала комиссия из Москвы. Там была комсомольская секретарка уже не факультетского, а университетского уровня. Довольно красивая и современная тетка лет тридцати. Брючки, заграничная куртка. Не товарищ Парамонова, ничего похожего. “Как работается?” – спросила она, стоя на крыльце в гуще комсомольской массы. Я стоял рядом и ответил: “Ужасно!” – “Почему? – она подняла брови. – В чем дело? Проблемы?” – “Толку от нас никакого. Председатель колхоза сказал как от козла молока”. Она подошла ко мне еще ближе и негромко сказала, почти прошептала ту самую фразу, которую говорил Володя Молчанов: “Ну что ты как дурак? – она подмигнула. – Это же имеет большое политическое и воспитательное значение! А главное, вы все подружитесь, и три недели на свежем воздухе. Особо не перемогаясь. Что же тут ужасного?” – “Правда!” – сказал я. Хотел даже похлопать ее по плечу, но не решился.
Потом был поэтический вечер, который устроили студенты факультета журналистики. Мы с ними, странное дело, практически не общались, хотя они жили в соседнем корпусе, таком же деревянном. Мы даже танцевали врозь, хотя танцы были общие. Какое-то было странное несовпадение. Трудно было понять, в чем оно выражалось. Наверное, они нас считали заумными и желторотыми, потому что они были уже на втором курсе, а то и на третьем. А мы их считали слишком фасонистыми и наглыми. Наверное, так оно и было.
Однажды в нашем пионерском клубе, где были танцы, я сидел на подоконнике и курил. Вдруг ко мне подошел один парень из ихних, то есть из журналистов, и стал щелкать пальцами. Я сначала не понял, что ему надо, а он всё продолжал щелкать. Я поднял на него глаза. Он еще раз щелкнул пальцем и сказал: “Ну!” Причем это “ну” он сказал с каким-то странным произношением: “Ннэ!”. Я чуть вопросительно поднял брови, и тогда он наконец сказал: “Спички!” Опять же произнеся как “ссспэчк”. Я отвернулся и продолжал курить, глядя в угол. Он еще раз щелкнул пальцами, недолго постоял, потом молча отошел в сторону.
Итак, был вечер чтения стихов. Стихи были обыкновенные, не хорошие и не плохие, как обычно и пишут самодеятельные поэты: рифма есть, размер соблюден, смысл кое-какой вырисовывается, что вам еще надо? Но не всё так просто. Там была одна девушка. Рослая, черноволосая, с двумя большими косами. Даже, наверное, красивая немного южной, большеглазой и чернобровой красотой, но все-таки это была не Грузия или Азербайджан, а скорее Краснодар. И еще – она была празднично одета, в отличие от всех остальных ребят и девушек. На всякие вечера и собрания, равно как на танцы, мы приходили в тех же телогрейках и грубых штанах, в которых выходили в поле: чего там фасонить, все свои. А она была в красном платье. Она читала стихи, и тут не у одного меня, наверное, загорелись уши. Потому что это было публичное объяснение в любви, адресованное командиру их отряда, вполне себе сорокапятилетнему дяденьке, наверное, преподавателю. Она жестикулировала, она напирала, она смотрела на него, а он, бедняга, вместо того чтобы убежать или сказать ей “прекрати немедленно”, делал вид, что это к нему не относится. Там были и ночи безумные, и соблазнение невинности, и безоглядная вера в его благородство, и его предательство, но при этом твердое убеждение, что он никуда не денется и что они будут вместе. Я даже запомнил, как этот цикл заканчивался. Последние слова: “Нет бога кроме бога, и нет любви, кроме тебя, любимый!” Она едва не ткнула пальцем ему в лицо.
Надо было спасать ситуацию, и я закричал: “Браво! Бис! Отличные стихи! Еще, еще!” – и все захохотали, захлопали, затопали ногами. Мне кажется, этот объект любви должен был быть нам благодарен – потому что мы, совсем по Марксу, сумели превратить трагедию в фарс.
* * *
И еще один мощный фарс.
Мы очень много пили, ну и, конечно, бывало, что после вчерашнего кое-кто опаздывал выйти в поле. Тем более что выйти в поле было не так уж просто, нас возили туда на грузовиках. И если ты опоздал к грузовику, надо было идти пешком пять километров или дожидаться, когда Нинка Константинова повезет на таком же грузовике горячее молоко и хлеб – в час дня примерно. Вот что-то подобное и случилось с нашим однокурсником Валерой Абрамовым. Человек он, на мой личный взгляд, был не очень приятный. Типичный стиляга, если использовать терминологию пятилетней от этого момента давности, но она тогда еще была свежа. Он, например, любил ни с того ни с сего подойти и сказать, вертя ногой в импортной бутсе: “Клевые шузы, а? Типикал стейтс”. Это не нравилось ни мне, ни моим друзьям.
Так вот, Валера однажды опоздал в поле. Его на этом заловил наш командир Караулов. Может быть, Караулов сам не любил Валеру. Не исключено, что по той же самой причине. Мы тут все кругом скромные советские студенты, а тут на тебе – “типикал стейтс”. Джон в Америке родился, и в Америке он рос, тьфу. Караулов созвал собрание, небольшое, из тех, кто рядом подвернулся. Сказал, что Абрамова нужно исключить из студенческого отряда, а для этого исключить из комсомола, а это якобы означает исключение из университета. Мы, повторяю, не особенно любили Валеру Абрамова, но нам всё это не понравилось, и мы решили Валеру не отдавать. Караулов заартачился и сказал, что в нашем сельхозотряде принцип единоначалия. Но мы были ребята неглупые и языкастые. “Единоначалие? – сказал кто-то. – Тогда можете отправлять его домой. Он только рад будет. Но при чем тут комсомол?” Тем более что один из наших парней был членом общефакультетского комитета комсомола. Его выбрали просто по разнарядке от курса, но теперь он чувствовал себя вправе выступать авторитетно. Я не помню, чем закончилась эта перепалка, но Караулов ушел, хлопнув дверью, а мы решили прямо сейчас, а был уже довольно поздний час, собрать комсомольское собрание. И черт меня дернул пойти в радиорубку. Там сидел какой-то добрый старик, который ставил музыку. Я попросил микрофон. Он включил полную громкость, и я сказал: “Внимание, внимание! В клубе в 21 час 30 минут состоится внеочередное экстренное общее комсомольское собрание, на котором мы будет защищать нашего друга-комсомольца”.
Странное дело, но народ потянулся. Пришли почти все. Володя Молчанов выступил. Сказал, что Валера Абрамов парень хороший, что он давно работает в прессе, что он готовил важные материалы, помогал старшим товарищам что-то переводить, и напомнил какие-то статьи в популярных газетах. И в конце концов мы приняли резолюцию комсомольского собрания, “слушали-постановили”: рассмотрели дело о нарушении производственной дисциплины, постановили вынести выговор без занесения.
Но Караулов закусил удила.
Я понимаю, что всё это безумно смешно вспоминать из 2025 года, да, строго говоря, и в 1968-м тоже было смешно. Но Караулов сообщил в Москву, что здесь на морковке была создана подпольная комсомольская организация. А поскольку обращался через радиорубку к ребятам именно я, то меня он записал в ее лидеры. А я об этом ничего не знал. Точно так же я не знал о том, что к нам выехала ажно целая делегация парткома филологического факультета во главе с профессором Петром Федоровичем Юшиным. Никто нас об этом не предупредил. Наверное, хотели прихлопнуть на горячем.
Но в этот же самый вечер к своим друзьям с факультета журналистики, а заодно и ко мне приехали мои друзья – мой старый дачный друг Андрюша Яковлев и два его приятеля. Естественно, они привезли с собой водки. Пообщавшись со своими друзьями с журфака, они разыскали меня, мы пошли в березовую рощицу и там как следует напились. Водка была хорошая, московская, не то что местная серпуховская, никакого сравнения. Пили, болтали, рассказывали анекдоты. Один из приехавших с Андрюшей ребят похвастался, что у него с собой пистолет. Действительно, пистолет у него был самый настоящий, тяжеленький и, кажется, заряженный. Стрелять я, конечно же, не стал, хотя мне предлагали попробовать. Андрюшин приятель спрятал пистолет в рюкзак, и в этот самый момент в нашу рощицу, где мы так уютно выпивали, прибежала какая-то девушка и закричала: “Драгунский! Драгунский! Тебя вызывают в штаб”. – “В какой еще штаб?” – “Караулов вызывает”. – “Ага, в караулку!” – заржал я, потому что маленький домик, в котором отдельно проживал наш командир, мы так и называли.
Девочка тащила меня за руку и наконец втолкнула в комнатку, где сидел наш Караулов и еще двое каких-то незаметных человека, я так потом и не вспомнил, кто они, и слегка кудрявый, широколицый профессор Юшин, секретарь парткома. Я вспомнил, что Юшин – специалист по Есенину, мне кто-то говорил. “В самом деле, – подумал я, – он похож на постаревшего, размордевшего и почему-то черноволосого Есенина”. От этого мне стало еще веселее. Хотя я и так был пьян под завязку, под “линию долива”, имея в виду белую полоску на моем свитере где-то в районе горла. Юшин, судя по всему, был сам не чужд кабацких утех, поэтому сразу понял, что толку от меня в таком состоянии не добьешься. Но все-таки спросил, что, собственно, произошло и что мы тут учинили. Но я первым делом сказал: “Прежде всего я комсомолец!” – “И что?” – спросил Юшин. “Пока я выступаю за нерушимый блок коммунистов и беспартийных”. – “Почему пока?” – он сдвинул брови. “Потому что я пока беспартийный. Комсомол – помощник партии, так? А вот если я захочу вступить в партию, вы, как секретарь парткома, мне дадите рекомендацию?” – “Если водку жрать бросишь, – сказал Юшин, – и полгода продержишься, тогда поговорим. Но все-таки давай подробней, что у вас тут?” И я, напирая на свою идейность, сказал, что коллективное мнение комсомольцев курса таково: Валера Абрамов да, увы-увы, слегка оступился, заработал выговор, но никак не заслуживает столь суровой кары, как исключение из рядов ВЛКСМ. “Чего ж мы тогда сюда приехали?” – спросил Юшин то ли меня, то ли Караулова. “А бывает! – ответил я. – Вот давайте я вам что-то интересное расскажу! Был такой случай…”
И тут же на ходу придумал этот случай. Я, честное слово, всё выдумал, но ссылался на одному мне известные источники и контакты с важными людьми. Я рассказал совершенно безумную историю о том, как в комбинате “Известия” погас свет (почему “Известия”? Потому что там работал мой старший брат, это раз; а комбинат “Известия” шефствовал над нашей школой, где я учился, и я бывал в печатных цехах). “Был такой случай! – увлеченно говорил я, икая и сплевывая в газетку. – Однажды в комбинате «Известия» вдруг случилась авария, прекратилась подача электричества на целых три часа. Целых три часа стояли печатные машины. Поэтому газета вышла на три часа позже. Всего на три! – и я погрозил пальцем неизвестно кому. – Но западные радиостанции, – говорил я, нахмурив брови, – подняли по этому поводу страшный вой. Дескать, ах, газета «Известия» не вышла, значит что-то случилось в нашем советском государстве. А в это время электрики спокойно чинили кабель!”
Меня слушали очень внимательно. Я продолжал: “Но вот прошло три часа, и к газетным киоскам весело поехали машины со свежим тиражом! Мораль: поспешишь – людей насмешишь!” – “Это что, на самом деле было?” – спросил меня товарищ Юшин. “Еще бы! – сказал я. – Я знаю много таких историй. Хотите, расскажу?” – “Не надо, – сказал он. – Всё”.
То есть история кончилась ничем. Возможно, Караулову даже слегка влетело – за ложную тревогу. Надо сказать, что с Карауловым мы потом на факультете общались очень хорошо. Ни он, ни я эту историю не вспоминали. А вот товарищ Юшин меня запомнил и сумел мне слегка навредить после защиты диплома. Ну или так – не навредить, а не помочь, не защитить. Впрочем, может быть, он и не мог меня защитить. Но разговаривал со мной весьма враждебно. Наверное, потому и враждебно, что ничем не мог мне помочь.
* * *
Иногда перед танцами мы устраивали концертные вечера. Саша Алексеев и Юра Гинзбург пели под гитару “Отцвели уж давно”, “Кого-то нет, кого-то жаль” и “Тум балалайка”. Володя Орел возмущался, что “Балалайку” мы поем по-немецки, а надо бы на идише. Но увы, эта песня изначально сложена на чистейшем немецком. До сих пор помню наизусть, хотя учил со слуха.
Все веселились, только Алеша Граве сидел на койке и смотрел в одну точку. Я сказал ему: “Пошли на танцы”. – “Зачем?” – “Как зачем? Весело. Там девчонки”. Он посмотрел на меня и проговорил: “Разве в Москве это девчонки? Вот в Смоленске это девчонки”.
* * *
Приехали мы на автобусах туда же, откуда уезжали, к главному входу. Нас ждали родители. Многие были на машинах, в основном на старых “Волгах”, а одну девочку встречали на “Победе”. Мне показалось, что встречающих больше, чем провожающих. Оно и понятно: собирались отъезжать мы постепенно, а встречали нас всех сразу.
Сейчас я пытаюсь вспомнить, как мы там эти три недели мылись. То есть умывались мы под краном, а более серьезно? Ванна, душ и всё такое… Какая ванна, о чем вы говорите? Но хотя бы душевые кабины были или хоть какая-нибудь баня, мыльня? Я не помню. По-моему, нет. Да, совершенно точно. Ничего подобного не было. И даже не было возможности смотаться в Москву на помывку, как мы делали во время следующей трудовой экспедиции в совхоз “Московский”. Это всего минут двадцать на автобусе до метро “Юго-Западная”. Хоть каждый день езжай, если силы есть. А тут 120 километров. Так что насчет помывки было никак. Поэтому понятен некоторый ужас, с которым мама отправляла в стирку мои майки и фуфайки, трусы и рубашки. Но странное дело, это совершенно не мешало нам влюбляться, целоваться, обниматься. А может быть, ничего странного.
3. Византия
Первые два года мы учились в старом здании на Моховой. Мимо нашего дома в Каретном Ряду шли троллейбусы № 3 и № 23. Наша остановка – сад Эрмитаж. Следующая – Петровские ворота. Потом – Столешников переулок. Потом – Площадь Свердлова, Большой театр. Вот тут я соскакивал у Большого и шел пешком на Моховую.
Уже в середине первого курса я начал дружить со старшими ребятами. Сначала с теми, кто был на один курс меня старше. Люба, Татьяна, Марьяна Шаньгина. Дальше – Саша Подосинов, стал завкафедрой древних языков на истфаке, Самсон Зетейшвили, стал настоятелем грузинского храма в Москве. Очень веселый и добрый парень. Шутил: “Напишу диплом под названием «Гораций – великий римский поэт»”. Отслужил в армии, поэтому часто ходил в галифе и сапогах. У него была старшая сестра, киновед по имени Латавра. Я потом с ней познакомился совсем в другой компании. Увидел не слишком молодую – как мне тогда показалось – грузинку (а на самом деле ей было лет тридцать), которая вслух читала, размахивая бокалом красного вина, стихотворение Анакреонта про кузнечика, на греческом языке, вот что замечательно. Я, конечно, подошел к ней познакомиться и с удовольствием узнал, что она сестра нашего Сосо.
Курсом старше были Оля Савельева, Мила Баш, Люда Шустер.
А вот на пятом курсе наряду с Наташей, Ритой и Лёвой учился Игорь Чичуров, который меня заметил. Хотя на первом курсе я был вовсе не такой шумный, как на втором и далее. Я прекрасно помню, как именно мы познакомились. Наверное, потому помню, что знакомство с Игорем определило мою краткую научную судьбу.
Сейчас расскажу.
На первом курсе мы должны были писать курсовую работу. Но если на втором, третьем и четвертом курсе эта работа должна была быть связана с научными интересами и служить подготовкой к диплому, то на первом курсе всё было проще. Руководил всеми нашими курсовыми Николай Алексеевич Федоров. Работа была довольно простая и, честно говоря, неинтересная. Надо было взять – вернее, не взять, а получить из рук Федорова – короткий латинский текст и сделать его полнейший грамматический разбор. Что называется, от и до. Про каждое слово. И про синтаксис каждого предложения. Текст, разумеется, был короткий, странички на две-три. Мне досталось жизнеописание Аристида из известной, популярной в древности книжки Корнелия Непота о жизни знаменитых полководцев. Я купил себе Корнелия Непота за 30 копеек в букинистическом магазине, маленькую задрипанную книжку конца XIX века. Цены тогда были такие. Но у меня что-то щелкнуло в мозгах. Мне странным образом стало дико скучно разбирать текст по этой невзрачной книжице, и я захотел выполнить ту же самую работу, но глядя в какое-то очень старое издание. Вы таки будете смеяться – это издание я нашел. Это был тот же самый Корнелий Непот, но изданный в 1569 году французским филологом по имени Дионисиус Ламбинус. То есть некий Дени Ламбен – потом я узнал, что это был знаменитый ученый тех времен, издатель Горация, Лукреция и Цицерона. Но тогда мне сильнее всего понравилось, что он мой тёзка.
Нашел я эту книгу в Исторической библиотеке в Петроверигском переулке, куда записался 7 мая 1969 года (у меня сохранился читательский билет). Поздновато на самом-то деле! Курсовую надо было сдавать уже в июне.
В отделе редких книг меня усадили за стол с пюпитром, и библиотекарша раскрыла передо мной огромный том в белом кожаном с тиснением переплете. Интересно, что никто у меня не требовал никакой бумаги, никакого прошения и вообще никаких объяснений, за каким чертом мне понадобилось это старинное издание. Я начал читать и с большим удивлением увидел, что текст набран совсем другими буквами. Нет, не готическими, но с большим количеством каких-то загогулин и связок. А на полях, на широченных желтоватых полях, были напечатаны примечания этого самого Ламбинуса, включавшие в себя греческие цитаты – очевидно, параллельные места, поскольку, ясное дело, Корнелий Непот, описывая жизнь греческого полководца, опирался на какие-то греческие, даже для него старинные источники. А более поздние греческие историки, вполне возможно, использовали текст Корнелия Непота.
Но с греческими цитатами была новая беда. Греческие буквы были лишь чуточку похожи на те, которым нас учила Валентина Иосифовна Мирошенкова. Там опять-таки были какие-то бесконечные загогулины и, очевидно, сокращения. Самое обидное, что я понял: для читателя XVI века эти загогулины и сокращения были ясны как день, а для меня – темный лес.
* * *
Однажды на кафедре, в этой маленькой тесной комнате, я наткнулся на светловолосого парня и спросил: “Ты на каком курсе?” – “На пятом, а что такое?” – “Ты больше по латыни или по греческому?” – “По греческому, – ответил он и добавил: – Я Игорь Чичуров, я занимаюсь одним византийским оратором. Григорий Антиох. Похвальная речь патриарху Василию Каматиру”. – “А это кто?” – спросил я.
Игорь рассказал, что константинопольский патриарх Василий Каматир – кстати, тот еще фрукт! – в 1183 году благословил женитьбу шестидесятипятилетнего императора-узурпатора Андроника Комнина на тринадцатилетней Анне Французской. Она была вдовой его племянника, законного императора, юного Алексея II Комнина. Его убили по приказу Андроника. Удавили тетивой от лука. Императору было едва четырнадцать лет. Они с Анной повенчались, когда ей было девять лет, а ему – десять.
“Зачем старику такая девчонка? – я даже фыркнул. – Извращенец, да?”
Игорь объяснил, что Андроник хотел породниться с французской короной, потому что Анна была дочерью покойного Людовика VII и сестрой царствующего короля Филиппа II Августа, – а он, кстати говоря, не возражал против брака своей тринадцатилетней сестрицы со стариком. Однако Андроник – хотя был злобен, подл и кровожаден – со столь молодой женой был нежен и добр, окружал ее заботой и роскошью, и она, кажется, была всем довольна.
“Привыкла?” – спросил я.
Но через неполные два года, рассказывал Игорь, Андроника свергли. Пятнадцатилетняя дважды вдова Анна скрывалась в доме крупного сановника, в дальнейшем удачливого мятежника Алексея Враны, и в 1193 году – то есть в двадцать два – стала официальной любовницей его сына Феодора, полководца, который позже сверг императора Исаака Ангела.
“А почему любовницей, а не женой?”
Потому, объяснил Игорь, что во Франции ей полагалось приданое, то есть какое-то имущество, наверное, замки, земли и всё такое – но только как жене или вдове императора, короля, в общем, монарха. Она же была принцессой. А вышла бы замуж за простого аристократа – и всё! Ни кола ни двора.
“Офигеть”, – сказал я.
Вот, продолжал Игорь, она родила дочь от этого Феодора и выдала ее замуж за видного крестоносца Наржо де Туси. Крупного французского феодала. Девушке было пятнадцать лет.
“А жениху?” – тут же поинтересовался я.
Игорь сказал, что не знает точно, но тот явно был не стариком, как Андроник. А уж потом, после взятия Константинополя в 1204 году, Анна смогла наконец обвенчаться с Феодором, потому что граф Балдуин Фландрский, ставший императором Латинской империи, дал ей что-то вроде второго приданого. Она к тому времени уже играла важную роль в политике, в византийско-французских связях.
“Хватит! – взмолился я. Византия затягивала меня, как воронка, как омут, я тонул и задыхался. – Ты начал про патриарха. Как его там… я уже забыл. Что с ним стало?”
Ничего хорошего, сказал Игорь. Как только Андроник был свергнут и с отменной жестокостью убит, патриарха Василия Каматира на соборе низложили и вообще отлучили. Формально за то, что он благословил брак Ирины, дочери Андроника, и ее двоюродного брата. Но на самом деле за то, что он был продажным типом и всем уже был поперек горла. Вот так завершил Игорь свой рассказ.
“То есть этот Василий Каматир был полное говно?” – спросил я с прямодушием первокурсника. “К людям XII века не стоит применять такие критерии”, – улыбнулся Игорь. “Но ты же сам сказал, что Андроник был подлый и злобный!” – возразил я. “Так он же убил тринадцатилетнего племянника! А Каматир – просто приспособленец. Как почти все в Византии”. – “Ага! – я не унимался. – Значит, вот этот твой оратор Григорий Антиох, который восхвалял продажного приспособленца Каматира, вообще барахло?” – “Он обыкновенный византийский чиновник. Карьерист, пройдоха, не всегда удачливый. Да, наверное, с нашей точки зрения барахло”. – “Зачем же его изучать?” – “Что ж поделаешь! – рассмеялся Игорь. – Изучать надо всех, а не только благородных героев”. – “Понятно – сказал я. – Тогда скажи, как читается вот это”. Я достал из портфеля тетрадку, куда срисовал эти непонятные загогулины и сокращения греческих слов. “А где ты это раздобыл?” – спросил Игорь.
Я объяснил. Вот так, слово за слово, мы познакомились.
Игорь рассказал, что речь Григория Антиоха, которую он готовит к печати и комментирует, сохранилась только в одной рукописи, которая хранится в Испании в библиотеке Эскориала. О, музыка этих слов! Оратор Григорий Антиох, патриарх Василий Каматир, которому этот Григорий посвятил свое похвальное слово, и библиотека Эскориала.
Это как-то отзывалось, резонировало с книгой Дионисия Ламбинуса. Мир средневековых манускриптов и первоизданий раскрыл передо мной свои объятья. “Ух ты, – сказал я. – А ты что, в Испанию ездил эту рукопись копировать?” – “Нет, что ты, – засмеялся Игорь, – какое там. Мне прислали фотокопию”. И он показал черно-белые снимки греческого манускрипта, которые через пару лет я бы вполглаза определил как середину или конец XIII века, а тогда я только дивился этим завиткам и поразительно красиво и просторно написанной букве “бета”, похожей на очки, поставленные на попа. Еще я увидел, что этот почерк чем-то напоминает заметки на полях фолианта, который я изучал. Игорь увидел, как у меня горят глаза, и предложил мне не то чтобы заняться, не то чтобы посвятить себя, но так, обратить внимание на средневековые греческие манускрипты, которых, как он сказал, и в Москве довольно много. Прежде всего в библиотеке Исторического музея, который на Красной площади, а также в отделе рукописей библиотеки имени Ленина.
* * *
Игорь был платиновым блондином, хорошего, но не слишком высокого роста, с крепкими плечами. Потом, уже через пару лет, он мне рассказывал, что к ним в школу приходили какие-то тренеры отбирать ребят для профессиональных занятий классической борьбой и что он был единственным мальчиком из их девятого класса, которого они пригласили в секцию. Потому что он занимался гантелями. “В секцию я, конечно, не пошел, – сказал он, – но все равно приятно. Вместо классической борьбы – классическая филология”.
Мы с Игорем очень хорошо подружились. Вот именно что хорошо. Не то чтоб мы были друзьями не разлей вода, звонили друг другу каждый день – нет. Но дружба наша была какая-то очень добрая и глубокая.
У меня была папка перепечатанных на машинке избранных стихов Гумилева. Эту папку какой-то старичок подарил Белле Ахмадулиной после ее выступления в музее имени Пушкина – так она рассказала и подарила эту папку мне. А я дал ее Игорю. Дал просто почитать, сказал – нужно будет, я у тебя заберу. Но не попросил назад. То есть как будто подарил.
Бывало, мы с Игорем просто гуляли по Москве, выпивали в какой-нибудь стекляшке, под столом разливая водку в граненые стаканы. В московских стекляшках, то есть в маленьких кафе, на стойке всегда стоял поднос с пустыми стаканами. Непонятно зачем. Хотя на самом деле очень понятно: для пьющих граждан, которые приносят с собой. Выпивали и у меня дома вместе с Мишей Бибиковым – Игорь и его тоже перетащил из классической филологию в византинистику.